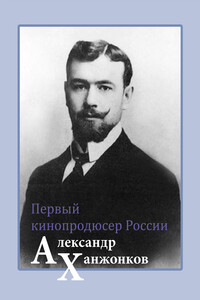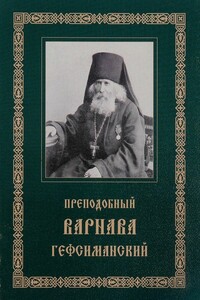Набоков | страница 76
Ход один и тот же — повсюду «Цыганы», — однако есть существенная разница: в версии Набокова героиня не делает вид, что она англичанка. Она Аня, она посещает Паркетную губернию, играет в куролесы и выслушивает рассказ Мыши о борьбе за престол, освобожденный Владимиром Мономахом. Ее не удивляют подсчеты в рублях и копейках. Что же странного, если, в отличие от Алисы, наверняка знающей стихи Роберта Саути, в середине прошлого века известные каждой благовоспитанной английской девочке, у Набокова Аня по просьбе Гусеницы начинает декламировать: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром тебя считают очень старым, ведь право же, ты сед…» — и так далее, — восемь строф, по ритмике и по системе рифм точно воспроизводящих «Бородино».
Этот прием вопиющим образом противоречит позднейшим представлениям Набокова о переводе, который должен быть слепком оригинала: неуклюжим, неудобочитаемым, зато на уровне смысла абсолютно достоверным текстом, примером буквализма в прямом значении слова. Решение, избранное для перевода «Алисы», означало неизбежную долю искусственности. В общем и целом это не перевод, скорее адаптации, а в адаптациях национальный колорит всегда ослаблен, если не утрачен целиком и полностью. Однако тут есть и свой выигрыш. Во всяком случае, теперь никому бы не пришла в голову мысль, смущавшая читателей Соловьевой: откуда девочке-англичанке так хорошо известен Пушкин?
А самое главное, естественной становилась словесная игра, без которой «Алиса» перестала бы быть собой, даже не превращаясь в Аню. Кэрролл выводит на сцену персонажа, которого в современном переводе зовут Черепаха Квази (в оригинале Mock Turtle, Черепаха, которая смотрится как пародия на черепах). Набоков соединяет «черепаху» с «чепухой», и на свет является Чепупаха — слово, без потерь передающее метафору, обыгранную в английском тексте, и вовсе не режущее русский слух. Кэрролл намеренно путает «lessons» и «lessen», и выходит приблизительно так: больше учишься — меньше знаешь. Набоков подбирает пару «уроки» — «укоры»: почти такое же близкое звуковое созвучие, а школьные укоры оставляют у русского читателя не менее яркое впечатление, чем кэрролловский каламбур у англичан.
Внимательным читателям именно «Аня» позволила бы в первый раз ощутить, что появился новый писатель: очень одаренный, очень эрудированный и намеренный двинуться своими путями. В те первые годы русского Зарубежья желание идти своими путями было преобладающим, особенно у молодого писательского поколения. Остро чувствуя значение свершившегося перелома, они — во всяком случае, большинство из них — не разделяли мыслей Шкловского, который писал, что наивно ожидать революции форм вслед за социальной революцией. «Своими путями» — назывался пражский журнал, просуществовавший недолго, лишь полтора года, до лета 26-го, однако выразивший идею обязательной, нормативной новизны отчетливее, чем другие эмигрантские литературные объединения и их издания. Для Набокова эта идея тоже обладала значительностью не меньшей, чем для остальных. Но воплощалась им по-своему.