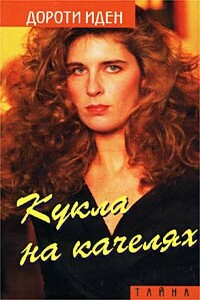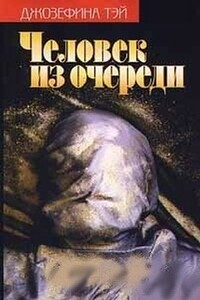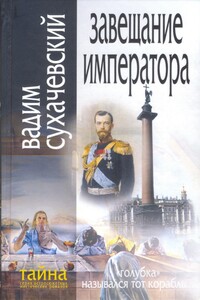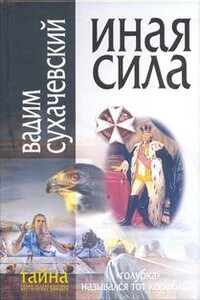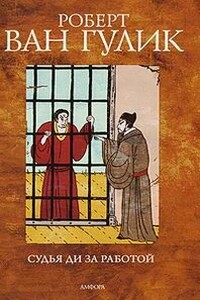Загадка отца Сонье | страница 27
— И, небось, денег за нее отвалил – о-го-го! Ты, клянусь, богач, Диди. В такой-то куртейке! Поделился бы ты, правда, с нами, бедными.
А уж пахло, пахло от них!.. Где там умещалось столько омертвелой плоти – на грязных руках или под пропотевшими рубашками, или в смердливых ртах, или уже в самих душах – иди знай…
— Во-во, богач-Диди, давай-ка, поделись! — встрял Жанно по кличке Турок, сын шлюхи Мадлен, самый отвратительный из них. Ему было уже лет пятнадцать, оттого кулаки у него куда увесистее, чем у других. Кроме того, говорят, он водился с самым настоящим взрослым ворьем, и что с ножом никогда не расставался – это все тут знали. — Неужели тебе нас не жаль, Диди? Быть слишком богатым грешно, так тебе и твой кюре скажет, — гнусавил он мерзостнее остальных. — Поделись – оно будет лучше.
Эти издевательства были куда больней, чем даже их тычки кулаками в бок. Чтобы избавиться от позора, я так обычно и поступал – отдавал им пять су из тех десяти, что исправно, как и было обещано, каждый день выплачивал мне отец Беренжер. Однако еще утром того дня я как раз купил три конверта с почтовыми марками, чтобы отправлять матушке, как она просила, письма в Ренн-лё-Шато, и теперь не имел ничего, чтобы откупиться от негодяев. Оставалось только молчать, опустив от стыда к земле глаза, стиснув зубы, и молить Господа, чтобы Турок-Жанно не пустил в ход свой нож. Только на Господа Бога, да еще на Спиритус Мунди в кармане – на них только вся надежда.
— Э, да ты, я смотрю, жадина, Диди, — продолжал он гнусавить. — Нехорошо быть жадиной такому богачу. Небось, у твоего кюре тысячи в кармане?
— Еще бы! В таких сапожищах, как гусак, выхаживает! — подхихикнул самый мелкий из них, бесенок Вико. — Весь Париж любуется!
— Ага, точь-в-точь гусак!
— А Диди у него – заместо гусыни!
— Ну признайся, Диди, по скольку твой гусь-кюре тебе за это дело отваливает? Небось, побольше, чем за свои сапоги отвалил? Поди, по сотне в день? А ты для нас бедных какие-то пять су жалеешь!
— Что для тебя какие-то жалкие пять су, Диди? Тебе за них своему преподобному гусаку только разок, небось, подморгнуть! — Это все не унимается бесенок Вико. Запасы его гнусностей неистощимы, я, по-прежнему, потупившись, жду, когда он проблеет еще одну какую-нибудь, но вместо этого он вдруг верещит во весь голос: — Ой-ой-ой!.. — и его остренький кулачок отлипает от моего ребра.
Я поднимаю глаза. Позади Вико возвышается отец Беренжер, — почему-то необычно рано он в тот день возвернулся, — и крепко держит за ухо маленького мерзавца. Ухо у того вмиг стало красным, как мясо.