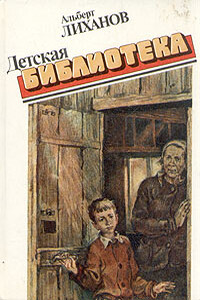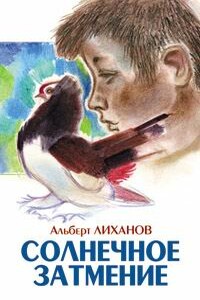Те, кто до нас | страница 4
— Что это? — завопил я в полнейшем отчаянии.
— А ты потрогай, — протянул мне врач свою блестящую штучку. — Это такая вороночка, ничего страшного.
Я не прикоснулся к ней, этой вороночке, и с тех пор испытываю смертельный ужас перед любыми никелированными медицинскими приборами, а увидев их, содрогаюсь всем телом и отвожу глаза. Ясное дело, к вороночке не прикоснулся, но, дурачок, поверил взрослому уговору. И тогда доктор велел своим покорным подручным, бабушке и маме, приблизить электрическую лампочку, свисавшую с потолка, отчего его железное око совсем ослепило меня, вставил мне в ухо, освобожденное от компресса, свою проклято блестящую вороночку, пошарил рукой в малахитовой коробочке, что-то достал оттуда, невидимое мною, и прикрикнул маме, прижавшей мою голову к своей груди:
— Держите!
В ухо кольнуло так, что боль, будто высокий звук, достигла своей высшей точки, и этот высокий звук превратился в визг, — я заорал в последнем отчаянии и изнеможении. И выкрикивая свою боль, отыскивая виноватого и бесспорно признавая им, конечно же, этого усатого злодея с сияющим вогнутым кругом над правым глазом, я прокричал ему в лицо:
— Тараканище!
Последнее, что помню, — как он сдирает с головы свой обруч с круглым зеркалом, и его вполне серьезно огорошенное лицо.
Я провалился в забытье. Очнулся — может, через минуту, а может через пять, почти здоровым. Оказывается, доктор проткнул мне барабанную перепонку, гной вытек, и оставалось только долечить меня, а это уже, как меня утешали, вполне пустяки.
Доктор улыбнулся мне и ушел за перегородку.
Там он шумно надевал пальто с бобровым, пристежным, как заметила бабушка, воротником, мама шуршала какими-то бумажками, они тихо переговаривались, наконец, доктор опять заглянул в комнату. Коротко сказал:
— Поправляйся!
А взрослым добавил:
— Через три дня.
Дверь негромко притворилась, повздыхав за стенкой, вернулась мама.
Бабушка спросила:
— Много?
Мама рассмеялась:
— Да сколько бы ни было! Он его спас!
Они обе наперегонки завздыхали, а мама вдруг расхохоталась:
— За что же ты его так обозвал-то, а? Своего спасителя?
А я ничего не помнил.
Тогда бабушка вздела очки к потолку и передразнила меня:
— Та-ра-кан, Таракан, Тараканище!
Они смеялись! Еще час назад плакали, а я орал, а теперь вот смеялись надо мной, маленьким, а я не обижался, мысли медленно шевелились в моей голове, все какие-то ерундовые, неважные, и я тихо, без боли, которую прогнал от меня этот опытный человек, погружался в теплый, сладкий сон, думая на прощанье: