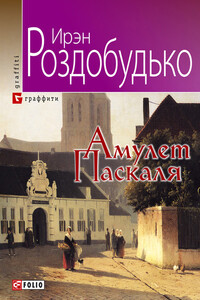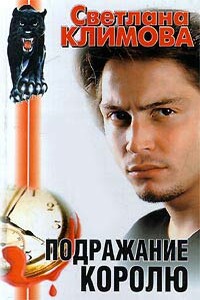Моя сумасшедшая | страница 9
Их было всего десятка полтора, не больше, и подбирались они к хорошо одетым городским, занятым своим разговором, крадучись, отворачивая лица и горбясь, как псы, хорошо знакомые с палкой. Впереди, с трудом переставляя иссохшие ноги в разбитых сапогах с обрезанными голенищами, двигалась женщина с замотанным в тряпки ребенком на руках. За нею — подросток в пиджаке с чужого плеча на синее костлявое тело, рукава болтаются до колен. За полу пиджака цеплялась девчонка лет шести, едва видная из ватной кацавейки. Остальные — кучкой, лиц не разобрать, только белки отливали желтизной, отражая электрический свет.
Хорунжий вскочил, сделал шаг навстречу женщине и неожиданно покачнулся, словно все выпитое за вечер разом ударило в голову.
— Хлiба, товаришу добродiю! — по-щенячьи затянул подросток. — Хоч крихту. Бо мала зовсiм конає!..
Девчонка заскулила, и Петр, с трудом восстановив равновесие, стал судорожно рыться в карманах в поисках куда-то завалившегося бумажника. Наконец нашел, выгреб все, что было, и, звучно дыша, стал совать женщине:
— Вот! Возьмите! Хлеба сейчас все равно не достать, и не продадут вам без талонов — купите завтра с утра на Благовещенском с рук. Да берите же, что вы стоите!
Женщина, очевидно не вполне понимая, равнодушно смотрела на светлые бумажки червонцев. Потом вдруг подняла глаза на Петра и медленно улыбнулась беззубым провалом рта.
— Откуда вы? — оторопело спросил он.
Молча обогнув Хорунжего, женщина приблизилась к скамье, с трудом наклонилась и опустила на нее сверток с молчаливым младенцем. Выпрямляясь, со вздохом облегчения ответила:
— З-пiд Першотравневого. Михайлiвка — була така, може, чули?
— Петр! — донесся голос Тамары. — Что ты делаешь? Это ж кулацкое охвостье, которое…
Сказано было с тупым раздражением, и ясно читалось, что ей жалко денег.
Хорунжий бешено крутнулся на каблуках:
— Молчать, дура!..
Мелькнуло лицо Леси — испуганное, жалкое, совсем юное. Сердце мучительно сжалось.
Эти люди надеялись на хлеб, который сеяли, а у них забрали жизнь. Уже с момента выхода в прошлом августе указа «семь-восемь» стало ясно, что зиму не переживут сотни тысяч, и прикончила их январская директива Москвы, запретившая выезд селюкам из Украины, с Кубани и Дона. А слепые и глухие не желали ни знать, ни видеть, как каждое утро за газетным киоском на углу Данилевского растет под рогожей штабелек голых, плоских, как ржавая тарань, или восково-желтых, раздутых, в черных вмятинах, — ночной урожай. И как в половине седьмого хмурые мужики из хозуправления грузят их, бросая, как поленья, на подводу, и увозят в неизвестном направлении. А о том, что в глухие зимние месяцы творилось по дальним селам, лучше и не поминать…