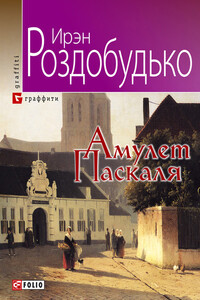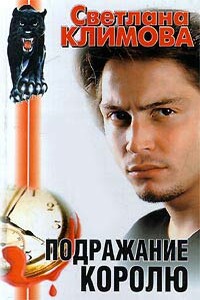Моя сумасшедшая | страница 8
Тамару он заметил сразу же, дальше стучала каблучками Леся. Еще несколько фигур пересекали площадь, отделившись от толпы, и среди них Петр отметил Шуста. Тот весь вечер упорно ловил его взгляд, но так и не решился приблизиться. Под руку с Иваном размашисто вышагивала Фрося Булавина — коротко стриженая, в шляпке колпачком и синем, туго стянутом в поясе макинтоше.
Хорунжий остановился перед постаментом с бюстом классика. Без приязни взглянул на черный, долгоносый, в потеках голубиного помета профиль, поморщился и вдруг спросил через плечо, заранее зная, что Шуст уже где-то здесь, рядом:
— Чуешь, Ванятка? Тебе кто твои опусы на машинке перестукивает? Евфросиния?
— Сам, — тут же отозвался Шуст. — Освоил.
— Ишь ты! — фальшиво удивился Хорунжий. — Молодца! А раз так, ты и объясни мне… ф-феномен. Вот сколько ни пробовал напечатать слово «Австралия» без ошибки — один черт выходит «Автсралия», хоть с разгону, хоть одним пальцем. Руки у меня, что ли, не по-людски вставлены?..
Хорунжий хохотнул, прикуривая из горсти, и с маху опустился на скамью. Крашеный чугун был сплошь в каплях измороси. Женщины остались стоять. Леся подняла ворот жакета, зябко поежилась, и он вдруг остро пожалел, что нельзя прямо сейчас ее обнять.
— Поменьше б этих ваших «Автсралий» — жили бы человек-человеком, — раздраженно буркнул Шуст, учуяв насмешку.
— Это как ты, что ли? — оскалился Хорунжий.
— Поздно уже, Петр, — вмешалась Тамара. — Хватит тебе дурачиться.
— А может, и в самом деле ну ее к ляхам? Кому она тут нужна, Австралия эта…
— Петр Георгиевич… — начал Шуст и тут же осекся, повел носом в сторону Юлианова.
— Чего тебе? Что ты все дурью маешься, Иван? — вдруг абсолютно трезво спросил Хорунжий. — И так все знаю. Хочешь совет?
Он умолк, малость помедлил, зная, что их разговор слышат трое: Тамара, Павел и Фрося Булавина.
— Тихо сиди, Ванятка. Вон — девушка у тебя молодая. Побереги ее. А в газетах больше не пиши — тебе же в вину поставят. Не пиши, говорю, не пожалеешь.
Шуст ссутулился, засопел, втянул шею в ворот пиджачка, словно заползал в раковину.
— Как же не писать? А партийная дисциплина? Кто ж позволит! Вы хоть соображаете, что говорите? — глухо возразил он.
— Ну, как знаешь. Вольному воля. Года три-четыре у тебя еще в запасе. А там — извиняй.
— Тьфу на вас! — негромко взвизгнул Шуст. Фрося, делавшая вид, что прогуливается поодаль, испуганно оглянулась.
Никто так и не заметил, откуда они взялись. Надо полагать, из зарослей у края аллеи, насквозь пронизывавшей сквер и заканчивавшейся другим памятником — Пушкину. Серые, нетвердые на ногах, безмолвные, в заскорузлом рванье, пропахшем мочой и потом. В ясных отблесках фонарей от театрального подъезда, в самом центре столицы, видеть их было вдвойне жутко: будто земля беззвучно расступилась, изрыгнув на поверхность коренных обитателей сырых и заплесневелых недр.