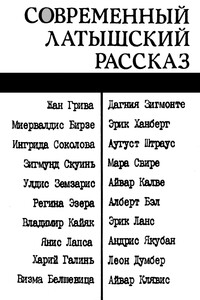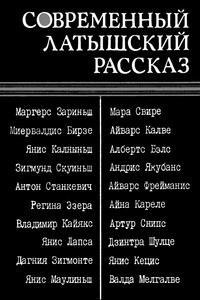Невидимый огонь | страница 34
Лелде вытирает лицо, сморкается и, вздрогнув, зябко поводит плечами. Что-то холодно. В одних носках она подходит к печке и прикладывает руки. Жар от кафеля чуть не обжигает ладони, а тело бьет легкий озноб. Ей себя жаль. И еще ей жаль сигарет. Хорошо бы сейчас закурить: говорят, они успокаивают, когда нервничаешь, и согревают, когда мерзнешь.
К двери приближаются шаги. С той стороны кто-то нажимает на ручку и отпускает. Постучат? Не постучат? Нет, не стучат, шаги удаляются, и опять настает мертвая тишина. Мама? Кажется, да. Наверное, мама…
Стук молотка прогоняет тишину. В кухне или в прихожей кто-то забивает или спрямляет гвозди, долбит ритмично и глухо, как дятел. Наверно, отец. Интересно, что он будет делать с этой пачкой? Не понесет же назад в магазин. И как она могла забыть сигареты в пальто? Правда что балда!.. И к тому же знала, что отец всюду лазит. Выудил из сумки записку, учуял в кармане сигареты. Все надо прятать, как от вора… Как от… шпиона…
Стук стихает. К ее двери вновь приближаются шаги, мать за дверью что-то говорит, может быть ей, может о ней, разобрать нельзя, зато слышен голос отца: «Пусть себе посидит! Голод не тетка…» Это о ней, о Лелде, о ком же еще, да так громко, чтобы и ей было слышно. Голод… Смешно. Есть не хочется ни капли, а голова тяжелая и пустая. Несмотря на отцовы слова, мать, кажется, не уходит, видимо надеясь, что Лелде откроет, или не зная, что ей сказать, что предпринять. Лелде ждет, что будет дальше. Но ждет напрасно. Только за дверью по-прежнему кто-то стоит — стоит и стоит, тоже ожидая, что будет: что скажет, что сделает она. Проходит минут пятнадцать… полчаса… час… Наверняка так только кажется и никого там нет, нельзя же стоять без конца. И все же она почти чувствует ободряющее присутствие другого человека, ей слышится даже его дыхание. Ступая на цыпочках, она подкрадывается к двери, прикладывает ухо и слушает тихое живое биение, как стук морзянки, посылаемый живым существом. Приходит в себя — это же ее пульс! — и разочарованно возвращается; обхватив руками, подтягивает к груди колени и, не ожидая больше ничего и ничего больше не желая, сидит на кровати в каком-то странном — тоскливом и в тоже время сладостном — унынии, чувствуя себя одинокой и покинутой, сидит долго, без мыслей, как в полусне.
Выходит она из комнаты в поздний час, когда дом погружается в полную темноту. Не зажигает света и она, ощупью бредет в кухню и, налив из чайника еще теплой воды, умывается и пьет. На дворе такой мороз, что кухню быстро выхолаживает, стекла затянуты прозрачным затейливым узором, который серебристо мерцает в ночном сумраке, и на белесой стене — светлый прямоугольник окна.