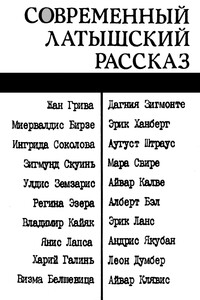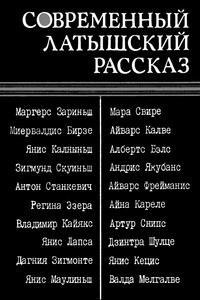Невидимый огонь | страница 21
Ритма это Ритма.
В руках у нее пакеты, и длинный сверток — наверное, с цветами, — и круглая картонная коробка, вся обмотанная шпагатом.
Ритма открывает дверцу «Запорожца» и с ослепительной улыбкой говорит:
— Ты очень любезен, Каспарсон.
Дожидаясь автобуса, она раскраснелась, а при виде Аскольда, как ему кажется, краснеет еще больше, и ее круглое румяное лицо — мелькает у него в голове — становится похоже на яблоко.
— Домой едем?
— Будь по-твоему! — отвечает он со смехом, ведь ее вопрос задан так, как будто дом у них общий.
— Чего ты смеешься, Каспарсон? — спрашивает Ритма не без лукавства, но произнеси он вслух то, что пришло ему в голову, это наверняка прозвучало бы глупо, и Аскольд, разумеется, воздерживается и вместо этого помогает ей разложить на заднем сиденье покупки. — Каспарсон, о господи, вот увалень, не ставь же торт на цветы! В бумаге каллы! — восклицает она с преувеличенным, слегка наигранным ужасом, и Аскольд перекладывает свертки и коробку, послушно и даже с удовольствием ей подчиняясь и выполняя ее приказы, и ее особый, чуть фамильярный, подтрунивающий тон, только ей одной свойственный и Аскольду знакомый, создает вокруг них, как в азартной игре, постоянное и волнующее напряжение.
Так. Все разложено, Ритма садится рядом, и Аскольд чувствует морозную свежесть, которой напитаны поры ее одежды и пушистый воротник, волосы и даже как будто бы кожа, и какой-то запах — наверно, духов, или, может быть, пудры — еще оттеняет эту свежесть, овевая Аскольда загадочно женственными ароматами.
— Вот тебе на — продавщица ездит за покупками в город? — выжимая сцепление и включая скорость, говорит Аскольд, подлаживаясь под ее настроение.
— А ты видел когда-нибудь у нас в магазине торты? — метнув на него быстрый взгляд, вопросом отвечает Ритма; он смотрит на нее, отвернувшись от дороги, и его обжигает горячий Ритмин взгляд. — Я — нет.
— Я не ем торта, — замечает он. — Так что мне это безразлично.
Теперь смеется Ритма.
— Ты не ешь торта, Каспарсон… не куришь… не пьешь водки… У тебя нет никаких недостатков. — Она вдруг становится серьезной и после короткого молчания опять с напускным ужасом передергивается. — Я побаиваюсь людей, у которых нет никаких слабостей.
— У меня другие пороки, — развеселившись, оправдывается он. — Я подмазываюсь к начальству, собираю почтовые марки, сидя скриплю стулом и не люблю свою жену.
Брошено это шутя, несерьезно, так беззаботно и небрежно, что слова скорее отрицают свой смысл, чем подтверждают, тем не менее он испытывает легкую неловкость и догадывается, что был нетактичен, без особой нужды и связи упомянув Аврору и хотя бы косвенно, мимолетно коснувшись их отношений. И, стараясь загладить впечатление, он иронично добавляет: