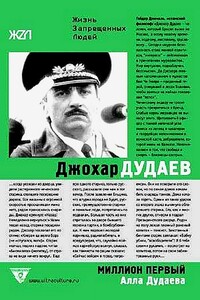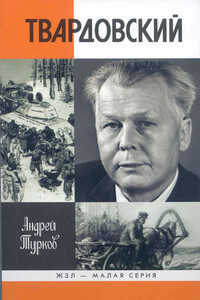Салтыков-Щедрин | страница 12
Александр Николаевич почтительно кивал.
Вскоре Александр II от имени покойного благодарил министров за усердную службу.
Некоторые переглядывались. Положение дел было таково, что благодарность звучала весьма саркастически.
Спасибо, дескать: поставили Россию против всей Европы, потопили Черноморский флот, вот-вот сдадим Севастополь…
В тот же день один флигель-адъютант обеспокоенно сказал другому по-французски:
— Ты слыхал? Большие перемены! Ботфорты отменили.
Занималась заря нового царствования.
Казалось, вздох облегчения вылетел из груди лучших людей русского общества при вести о смерти Николая.
Вздох облегчения, горечи и… стыда.
Оглядываясь на прошлое, даже довольно миролюбивый профессор Кавелин дал усопшему самую уничтожающую характеристику:
«Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству в течение 30-ти лет, вырезавший лицо у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I… Экое страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного!.. Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности? Какому Ваалу нового времени принесены в жертву лучшие силы, цвет и надежда России? Когда-то соберутся новые? Еще генерация, выросшая и воспитанная под самой несчастной звездой, лишенная энергии, идей, чести, только с виду носящая человеческий образ, должна пройти, пока выйдет что-нибудь путное».
Письмо это к Грановскому переходило из рук в руки, вызывая общее сочувствие.
Кавелин не преувеличивал страшных потерь, которые принесло передовым силам России минувшее царствование.
Встретясь с Грановским, один из его учеников взволнованно спросил, знает ли тот о смерти Николая.
— Удивительно не то, что он умер, — задумчиво отвечал историк. — Удивительно, что мы живы.
Он ошибался насчет себя: через полгода его не стало, его душевные раны были неизлечимы.
С чужбины доносились голоса Герцена и Огарева. Они основали в Лондоне сначала издание, окрещенное ими «Полярной звездой» — в память декабристского альманаха, а затем и газету «Колокол».
«Бедную свечку затеплили мы для нынешнего дня, на чужбине, с чужими, от вас зависит поддержать и раздуть ее пламя», — обращался Искандер (Герцен) к своим соотечественникам в первом номере «Полярной звезды».