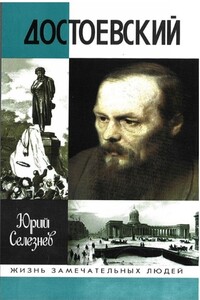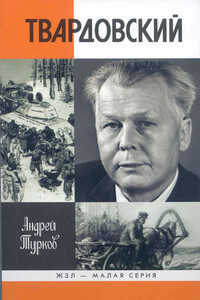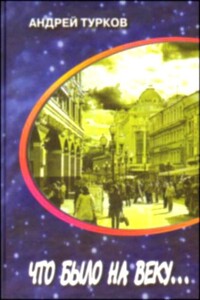Салтыков-Щедрин | страница 11
Люди, наживавшие баснословные деньги на поставках и подрядах, со слезами умиления восторгались героями Севастополя:
— Держится голубчик-то наш! Не сдается! Нахимов! Лазарев! Тотлебен! Герои! Уррра!
Так радуются курице, несущей золотые яйца.
Вятский чиновник Салтыков мрачно глядел на патриотические рыла непойманных воров, с горечью вспоминая поразивший его в свое время рапорт об устройстве в Вятке эшафота; там говорилось, между прочим, что знак клейма всегда явственнее выступает у худощавых, нежели у толстых.
Как хотелось ему положить на эти полные притворной скорби о «солдатиках» и внутреннего ликования сытые лица такое позорное клеймо, чтобы век не смывалось и не тускнело!
А за окнами с напускной лихостью распевали забранные в армию мужики, причитали бабы, вспыхивали пьяные драки. Уже тридцать тысяч человек высосала война из Вятской губернии. Одни из них дрались, других давно засыпали землей, а третьи еще только подходили к Симферополю. Еле выдирая ноги из грязи, они с состраданием глядели на трупы изможденных лошадей и коров, так и не дошедших до Севастополя, расступались перед тряскими телегами, откуда неслись жалостные стоны.
О чем думал Салтыков, опасаясь доверить свои мысли и случайным друзьям, и родным, и даже простой бумаге?
Наверное, о том же, о чем втайне мечтали все сколько-нибудь разбиравшиеся в этой трагической ситуации люди.
«В Западной Европе, — писал несколько лет спустя Чернышевский, — покажется ненатуральным и невероятным, чтобы даже австрийские немцы считали несчастием для государства тот случай, когда их правительство одержало бы победу, и надеялись добра только от поражений своей армии. Но мы совершенно понимаем это чувство».
«Совершенно понимаем» — потому что сами пережили это в Крымскую войну, когда в среде петербургской интеллигенции, к которой принадлежал Чернышевский, сообщение о падении Севастополя передавалось с естественной горечью за понесенные жертвы и вместе — с радостью, что исчезает последняя опора, которой пользовались защитники старых порядков.
«…Приходится даже бояться успехов русского оружия из опасения, чтобы это не придало правительству еще более силы и самоуверенности», — записывал Грановский в январе 1855 года.
«…Мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет», — вторил молодой историк Сергей Соловьев.
Банкротство николаевской системы было полным.
Царственный банкрот не вынес удара. Посетовав в предсмертном разговоре с сыном, что он «сдает ему команду не в лучшем виде», Николай сжал руку в кулак, видимо, как завещание: держи крепче, как можно крепче!