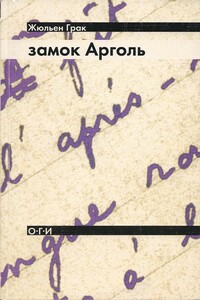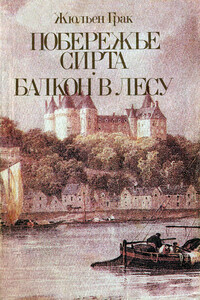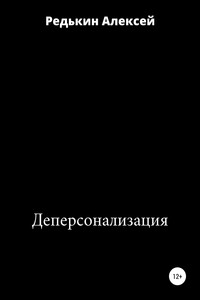Сумрачный красавец | страница 70
Когда мы долго, сосредоточенно, сознательно отрешившись от всего остального, разглядываем кресло, или портрет, или узор на гобелене, то порой начинаем видеть их, видеть по-настоящему, как они есть, во всем присущем им неповторимом своеобразии, ничем не объяснимом, не подчиняющемся никакой логике (вплоть до того, что все остальное становится для нас невидимым), нам открываются не только их зримый, знакомый облик, но и те черты в них, благодаря которым они могли бы быть чем-то другим, — и мы чувствуем, что отныне нам нельзя будет сказать: "это просто кресло, это только портрет, это всего лишь гобелен": и тогда, в редких, правда, случаях, нас охватывает панический страх, подобный тому, какой я пережил вчера.
Мне вспоминается одна занятная деталь: пожалуй, она может объяснить, почему я внезапно выпустил руль и дал этой комнате самовольно блуждать во времени. На письменном столе Аллана стоял календарь — тонкие пластинки слоновой кости в металлической подставке, и дата на календаре указывала: 8 октября. Ошибка, и ничего больше? Или колдовское заклятье: вот так, бывает, ночью, зачитавшись какой-нибудь книгой, вдруг вскакиваешь на кровати, в такой знакомой комнате, где уже несколько секунд не слышно тиканья остановившихся часов, — и тебе кажется, будто ты стоишь на крутой тропинке, а рядом грохочет скорый поезд.
Почему бы не представить себе, что всюду, где бы ни оказался такой вот Аллан, возникает нарыв — один из тех нарывов, которые медицина в тяжелых случаях считает небезопасным, но действенным средством самозащиты организма? Нарыв, притягивающий к себе все токсины, все перерожденные клетки, все мертвые частицы, какие постоянно присутствуют даже в самом здоровом теле.
Когда в последнем акте "Лоэнгрина" герой снова появляется вооруженным с ног до головы, в тех же серебряных латах, в каких его видели в первом акте, сразу понимаешь, что он уйдет навсегда — что орбита этого светила, вместе с его спутником, Граалем, во второй — и последний раз — пересечет земную эклиптику. Крыло на его шлеме — как комета, бесследно исчезающая в черной бездне неба. Так вот: если бы Эльза и король увидели его впервые именно в эту минуту, они ощутили бы что-то похожее на то, что ощутил я: головокружительное низвержение в пустоту, стеснение в груди, тяжесть на сердце.
В опере есть и еще один примечательный момент. В сцене в опочивальне, в самой середине любовного дуэта, Эльза вкрадчиво, с ангельским лукавством задает первый роковой вопрос. И катастрофа начинается. В звуках оркестра еще царит загадочная неясность, но мало-помалу высвечивается едва заметная, гибельная трещина, возникает смутная тревога, как на вершине горы, между двумя склонами. Помню, у меня задрожали руки, когда, как сказано в либретто, "Лоэнгрин нежно обнимает Эльзу и, подойдя с ней к окну, показывает ей цветущий сад". Окно открыто, и в окно смотрит пугающе прекрасная лунная ночь, ночь без сна, растревоженная непривычными шорохами, беззвучным колыханьем бледных лепестков, — ночь, полная предзнаменований, ночь, когда оживают цветы. Восход луны, туманной, коварной, луны, обманывающей мечты, той "непостоянной луны", которою клянется Ромео и которой не доверяет Джульетта.