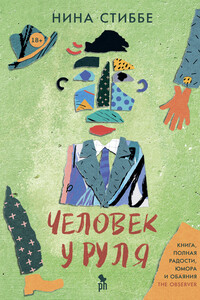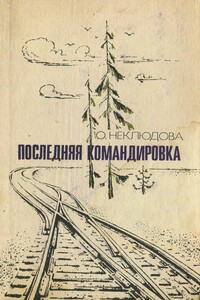Апостат | страница 41
Алексей Петрович, замедливши шаг, уклонился чандал, свиньём прущих на пересадку из Дели в Нью-Дели и пропустил вперёд мулаточку с европейским паспортом в щепоти, налегавшей на негра-чемодан, словно на соху, длинноногее статуй моих родоначальников со стофранковых купюр — отрастивших конечности для ореибасия по энгадинским сугробам, — с голостопым фиванцем Морисом взапуски! Она столь благоухала ночным сеном, осенним шиповником с корицей, что Алексей Петрович сей же час молча испросил обонятельного убежища, и получивши безгласое «добро», пристроился за её сарафаном: если бы не клеймо от «Lempicka» — вылитая одежда из сундука капитана Миронова, — пригорюнившегося здесь же, с замусоленным эстонским паспортом, в бёклиновских клетчатых панталонах и жёлто-алым галстуком вкруг пронзительно синей, как хребет шагаловой козы, шеи. Мулатка вдавила чемоданную рукоятку в вороной пазух, точно искровавленное October’ом Equus’ом лезвие — в ножны, и буркнувши, мелодично оттопырив верхнюю тонкую губу с фиолетовой поволокой: «Che bestia!», — присела на ухнувший от нескрываемого удовольствия багаж, будто изготовилась потешиться импровизацией, открывши шоколадную ножку аж по самое бёдрышко (взгляд на него — тот же бросок силка, и — медленный самовлюблённый взоровый рикошет к дермическому лоску с неоновыми прямоугольниками голой голени, плясавшими не столько от мигания ламп или мускульного перебора, сколько от таинственной внутрикожной деятельности, ни ей, ни Алексею Петровичу не ведомой, но от того не менее естественной и желанной); цокнула и снова вознесла с прикордонного пола изощрённый каблук, не внесённый в главу «холодное оружие» декларации.
От этой Италии, в новом, единственно приемлемом нынче обличье, на сердце у Алексея Петровича полегчало, словно сумел он пронести свою контрабандную бутыль, избежавшую лап сангвинического бульдожьечелюстного таможенника, сейчас так экзальтированно потрошившего поклажу турок, заливисто лаявшего на них за непонимание имперского койне, да вертевшего приплюснутым носом столь скоро, что подчас заместо одной головы Алексею Петровичу мерещилось целых три. Впрочем, подобные зрительные разветвления случались у него не впервой, и Алексей Петрович, не слишком потворствуя пложению тверёзых галлюцинаций, терпел их, почитая за разведотряды пьяных грёз.
Нечто от Гоголя с Гогольком вспыхивало в Алексее Петровиче мри встрече в Новом Свете с Новыми Апеннинами, насильно, как и всё счастливо-случайное притянутое из Африки, зацепленное в той же пропорции, вымеренной русским «авось», — и вот она, уже благоухая перед Алексеем Петровичем, катила к границе, отталкиваясь наконечником каблука, точно переиначенным в багор копьём, зацепляя им трещины, оскомины, морщины, царапины, шрамы фальшивого мрамора, — так, что у Алексея Петровича сладко заныло в бедре, и он шагнул вперёд, заметивши, как загодя козырявший перед пограничником немец снял сандалии да так и заскользил вразвалку, чуть приволакивая левую лапу по плитам, в толстенных шерстяных своих, простреленных с пяты носках одного с ним происхождения (будто тащил Петру связку лещиных трупов), — подчинившись призывному жесту светло-голубого рукава, синхронизированного жёлтым пламенем, на мгновение залившим врата: как это Гоголь, первый русскоязыкий физиолог Евразии, выцедил в современных ему, да и нам, германцах нечто мелкобесье, в буре да пурге мельтешащее сотней цветастых ивереней веры Сатаны, и лишь подчас, когда гикнет свой зов Бог, — превращающихся в единый, ещё Арминием замысленный