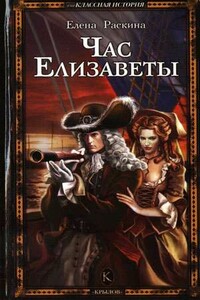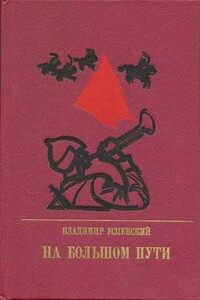Жена Петра Великого. Наша первая Императрица | страница 131
Пастор со своим многочисленным семейством ныне также находился в Москве, где ему велено было основать гимназию для детей из знатных семейств. Он и занимался гимназией — без особого рвения и огня, но серьезно и основательно — как привык. Делать что-либо спустя рукава пастор не умел и не собирался учиться этому столь распространенному среди московских обывателей обычаю. Но разжечь прежний огонь в его бесконечно уставшей душе уже было невозможно, хотя он на коленях молил Господа об этом. Вспоминалась война: осада Мариенбурга, выжженные ливонские деревни, обезумевшие от горя и крови люди — и на душе становилось тяжко и мутно, как будто идешь куда-то в густом ледяном мраке и несешь в руках, словно свечу, свою единственную надежду… Сам виноват, укорял себя пастор. Он слишком понадеялся на освободителей-московитов, осуждал политику шведской короны в Ливонии… Теперь извольте, преподобный, посидеть с семейством у этих самых московитов в плену!
Глюк пытался навещать Марту, но прежней близости между ними уже не было. Слишком многие из казавшихся незыблемыми ценностей, которые ученый пастор пытался взрастить в душе своей воспитанницы, катастрофически разрушались на ее глазах. Вместе с мариенбургскими стенами рухнули вера в торжество добра и милосердие. Оставалась только хрупкая надежда на Йохана. Марта боялась даже в мечтах рисовать себе картины их чудесной встречи, но в глубине души верила: вопреки всему он жив, он ищет ее и обязательно найдет! Любимый не подавал о себе вестей, и с каждым днем ждать этих вестей становилось все невозможнее. От бессильной и глухой тоски Марту отвлекали только хлопоты по дому.
Немножко трогательного тепла дарила и дружба с Аннушкой Шереметевой. После смерти матери Аннушка сначала горевала, а потом — о неистребимый Евин дух! — вернулась к обычным женским заботам. Она то и дело спрашивала у Марты, как носить французские и немецкие платья, как укладывать волосы в высокую прическу или наносить на лицо пудру вместо привычных румян. Дочка фельдмаршала усердно зубрила немецкий, но дальше простейших фраз не продвинулась. Марте, с ее врожденной восприимчивостью к звукам других языков, было легче. Еще в походе, скитаясь с обозом московского войска, она сносно научилась объясняться по-русски, и эти знания стали теперь для нее хлебом насущным. Болтая с Аннушкой, Марта постигала тонкости и дух языка, которому суждено было надолго стать для нее главным. Вечером, накануне визита Меншикова, Аннушка Шереметева расчувствовалась и подарила Марте красивое французское платье из своего «гардероба» — не слишком роскошное, но вполне уместное в данных обстоятельствах. Когда экономка господ Шереметевых облачилась в серебристый атлас и уложила волосы в высокую прическу, Аннушка восхищенно всплеснула руками.