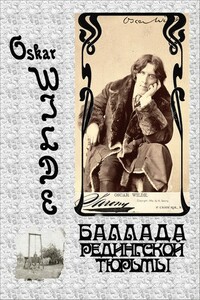Том 1. Сатиры и лирика. Стихотворения 1905-1916 | страница 20
Раздел «Горький мед» видится мне неким буфером между двумя полюсами книги стихов. Все градации сатиры — от легкой усмешки и издевки до трагических гротесков — соседствуют с прорывами в страстный лиризм и — другого слова не подберу — в целомудрие. Для чуткого читателя раздвоенность ощутима уже в самом названии раздела. Следует заметить, что Саша Черный весьма большое значение придавал заглавию — будь то книга, цикл или отдельное стихотворение, — стремясь совместить в нем многозначность и простоту. Ибо, по его глубокому убеждению, «заглавие — символ, любовно выбранное имя, а вовсе не пустая подробность. Можете ли вы прекрасное звучание слов „Дворянское гнездо“, „Отец Сергий“ подменить каким-нибудь „Ки-ка-пу“ или „Шурум-бурум“? Попробуйте»[13].
Итак, любовь… Понятие, в котором самой природой слиты взаимоисключающие, казалось бы, противоположности: одухотворенное, беззаветно-жертвенное, интимное чувство и чисто физиологический инстинкт. Эрос, правящий миром… Великое таинство любви… Темы эти исстари считались прерогативой поэзии. В «Горьком меде» Саша Черный подошел к этой возвышенной теме как бы с тыла: карикатура на любовь, суррогат любви, ее обывательская имитация. Все сведено либо к флиртоблуду, пикантностям, либо к узаконенным и выставленным на всеобщее обозрение формам бытования взаимоотношений между полами. В этом деформированном, «нормальном» мире первое амурное признание более походит на деловой сговор партнеров о сожительстве («Мой оклад полсотни в месяц, ваш оклад полсотни в месяц, — на сто в месяц в Петербурге можно очень мило жить…»). Пучина страстей сводится к сытому, равнодушному удовлетворению чувственности («так, знакомая близко жила»). Всего ужасней, что при этом стираются бесконечно близкие, неповторимые черты любимого существа. И вот уже «нет Гали, ни Нелли, ни Мили, ни Оли», а вместо любвеобильного франта на скамейке в Александровском саду донжуанствует безликий котелок, склоняющий «шляпку с какаду» — к чему? — ясно, к чему. Чем, право, они, добропорядочные дамы и господа, лучше панельной красотки, «чумы любви в накрашенных бровях»? «О, любовь, земное чудо, приспособили тебя!» — в сердцах восклицает поэт. Характерно, что объектом его сатир становятся не какие-то особо вопиющие «факты», а то, что в житейском, в нашем «взрослом» понимании считается нормой. Надо обладать непосредственностью андерсеновского мальчика, чтобы, отбросив покров привычного, во всеуслышание крикнуть: «А король-то голый!»