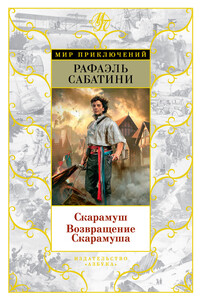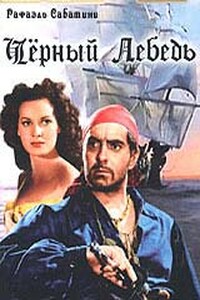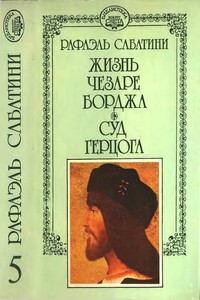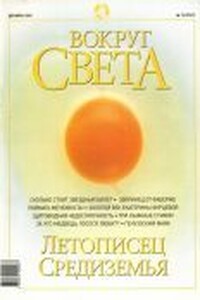Вокруг Света 1991 № 02 (2605) | страница 73
Годы, когда Колчак вырос как личность, были отмечены полной верой интеллигенции в прогресс, любые шаги к которому, даже безумные, ценились много выше отдельных судеб. (Толль был одним из многих, кто убил себя и спутников ради «прогресса знаний», и общество сочло их героями, достойными подражания.) Вскоре эта философия явилась миру в самой страшной форме. Считалось, что «прогрессивное» меньшинство вправе навязывать волю «отсталому» большинству. Горстка офицеров-реформаторов могла, естественно, считать этим меньшинством себя, а принадлежавший к ней Колчак к тому же полагал, что обществом правит «закон глупости чисел», согласно которому «решение двух людей всегда хуже одного, трех — хуже двух и т. д.». Будучи уверен, что Бог призвал его спасти «великую и неделимую Россию», он и вправду полагал, что все должны исполнять его волю.
Себе лично он ничего не искал, сам жесток не был, и в бедах белой Сибири его можно винить лишь в плане его политической близорукости, в желании отложить гражданские проблемы вплоть до военной победы над красными. Трехтысячный царский генералитет разделился тогда на три примерно равные группы: треть служила белым, треть красным, треть уклонилась. Колчак сперва уклонился — поступил на британскую службу, но был вскоре направлен в Сибирь; до августа 1919 года даже его охраной служил батальон англичан. Винить при этом Колчака в про-английской политике нелепо, скорее виноваты английские лидеры, которые помогли ему в ноябре 1918 года взять, кроме военного командования, гражданскую власть, ему непосильную.
Сибирь, когда Колчак приехал туда в сентябре 1918-го, была под властью атаманов — самовластных военачальников. Колчак объявил их своими генералами, не сделав попытки на деле подчинить себе, и этим погубил дело: их отказ выполнять боевые приказы свел на нет ранние успехи колчаковских регулярных войск, их самоуправство разрушило тыл, их грабежи и зверства породили море мятежей. В тылу красных тоже полыхали мятежи, но большевики всюду начинали с организации тыла (пусть и жестокой, но целенаправленной), тогда как белые вожди наивно полагали, что «тыл подождет».
Если захотеть, Колчака можно выставить и правым, и левым, и каким угодно. Достаточно приписать ему атаманские зверства или возврат уральскими помещиками своих земель — и портрет злодея готов. А можно наоборот — вспомнить про многопартийные выборы в городские думы Сибири, про высланных за границу (а не расстрелянных) эсеровских вождей (хотя ненавидел их адмирал больше, чем большевиков, у которых ценил государственное начало). Провозгласив отказ от всякой партийности, Колчак симпатизировал все-таки скорее кадетской программе, за что монархисты ненавидели его и пытались сбросить. Печать, профсоюзы, самоуправление, заводы, пашни жили при Колчаке все же лучше, чем у Деникина или у большевиков. Для правых он был чуть ли не Керенским, а у нас его выдают за монархиста. Он хотел, войдя в Москву, созвать Земский собор, но одобрял разгон большевиками Учредительного собрания, а бюрократию развел в Омске такую российскую, что вызвал ярость у союзников и у своих либералов. Почему так? Да потому, думаю, что остался «вспыльчивым идеалистом, полярным мечтателем и жизненным младенцем» — так аттестовал его омский военный министр барон Будберг.