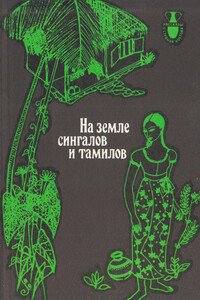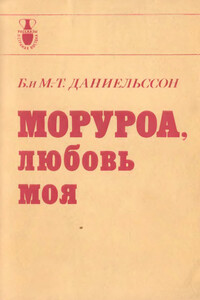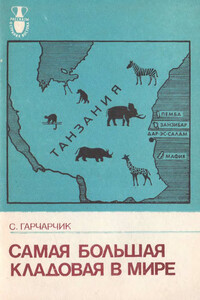Вокруг Света 1974 № 06 (2405) | страница 22
Петруха Потырхеев выметал с лодки невод. Бригадир руководил работами на берегу. Пока невод подтягивали к берегу, Петруха вкратце рассказал историю своей жизни. Молодой и бравый, уехал Петруха из Курбулика в город, устроился работать на суконную фабрику. Немного пожил — заела тоска по Байкалу. Тосковало все: горло — по воздуху, желудок — по рыбе, глаза — по синим просторам. В борьбе с ностальгией и городской гастрономией исхудал на десять килограммов. Вернулся домой — в первый же месяц поправился и вот рыбачит!
Мотню невода вытянули на мель, и оказалось, что она битком забита рыбой. Было ее не меньше тонны. В основном прозаическая сорога и окунь. Тщетно я старался высмотреть хотя бы одного омуля.
— А ты потрогай, какая вода! — сказал бригадир.
Я опустил с борта лодки руку: вода была теплой, как зеленый бурятский чай в пиале. Омуль не выносит теплой воды. С наступлением весны, как только прогреются мели и губы Чивыркуйского залива, он уходит в холодные глуби Байкала.
— Омуль там! — махнул бригадир Коля в сторону болот. — В Арангатуе омуль...
Еще в салоне «Славы» я узнал об опытах ихтиологов на Чивыркуе. Люди учились разводить омуль инкубационным путем. Личинки выращивались в стеклянных ретортах. Вылупившихся мальков сначала выпускали в реку Чивыркуй, потом в озеро Арангатуй...
Я давно уверовал, что нет на свете еды вкуснее омуля.
Мой дед, забайкалец, житель Читы, имел большое пристрастие к омулю. Целый год он откладывал из пенсии деньги, чтобы осенью отправиться в далекий вояж за баргузинским омулем. Рыбу эту тогда можно было купить в любом магазине Читы или Улан-Удэ, но дед в Усть-Баргузине покупал свежих омулей, только что из невода, и тут же солил их по своему рецепту. Хорошо помню это яство...
Но вот зимой 1972 года в Чите меня угостили омулем, который по вкусу напоминал худую селедку. Позже, в Улан-Удэ, меня потчевали точно такой же рыбой. Старожилы называли ее «инкубаторской». Так или иначе, но искусственное разведение омуля — сложная и далеко не решенная проблема.
Переночевав в доме Петрухи Потырхеева, я поднялся в четыре часа утра. На песчаной косе, служившей для рыбацких дор пристанью, уже собирались люди. На сегодняшний день меня закрепили за бригадой Ивана Малогрошева, которая рыбачила в таком месте, где вместе с соровой рыбой невод приносит к берегу немного омуля.
К песчаной косе выходили огороды рыбацких дворов, и в одном из огородов было устроено нечто вроде открытого портика, где стоит стол, накрытый чистой клеенкой. На мягком белом песке горел костер, на высокой треноге закипал чайник. Опознав во мне приезжего, коренастый, веселый и очень хлебосольный рыбак сказал, что он сейчас «сообразит» уху из омуля. В ту же минуту рыбак исчез за калиткой и вернулся с кастрюлей чуть подсоленных рыб. С половинкой одного омуля я расправился сразу, не дожидаясь, пока он сварит уху. Рыба была настолько вкусной и сочной, что вспомнились «омулевые пиршества» моего деда. Аромат, серебристый жир и тончайший вкус не оставляли сомнений: да, есть еще омуль на Байкале! Из-за бездорожья и удаленности Чивыркуйского залива воды его не тронули отголоски моторизованной человеческой деятельности.