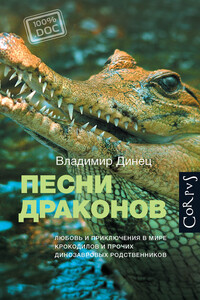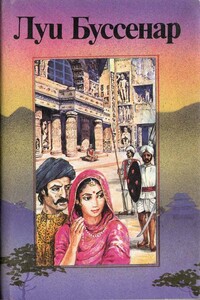Вокруг Света 1971 № 09 (2372) | страница 29
Натужно стучит мотор, преодолевая течение реки. И справа уже виднеется Нижне-Камчатск, вернее, то, что от него осталось. Древний городок недавно брошен: жителям предложили переселиться в другие поселки. Брошен острог, основанный в 1703 году.
Отсюда, из Нижне-Камчатска, вышла в 1728 году 1-я камчатская экспедиция: Витус Беринг повел свой бот «Святой архангел Гавриил» на север, к морю, которое потом было названо его именем. Здесь базировалась Северо-восточная секретная географическая и астрономическая экспедиция 1785 года. Здесь живали Владимир Атласов и С. П. Крашенинников, знаменитый исследователь полуострова. Это он писал о «чрезвычайном наводнении» в здешних местах в 1737 году, о трехсаженной волне, которая «при отлитии столь далеко... забежала, что море видеть невозможно было».
И вот все это покинуто. Безлюдно, пусто на берегу. Лишь один рыбак возится у лодки.
— Люди еще не уехали? — кричит с катера работник райисполкома, что плывет с нами.
— Какие? — откликается рыбак.
— Не наши, чужие...
— Однако, убыли. Что-то мерили, в тетрадки записывали.
— Понятно... Прощевай тогда!.. — И, повернувшись ко мне: — Должно, краеведы были. А может, ученые. Из Петропавловска, что ли...
Разворачиваю только что изданную карту области, чтобы найти там Нижне-Камчатск. Куда там! Даже крохотного кружочка не осталось...
Долина реки между тем сужается, пейзаж делается суровее: топкие торфяные берега сменяются скалистыми, высокими, поросшими лесом, и мы въезжаем в знаменитые Щеки — грандиозный пропил в горном хребте Кумроч. Теперь уже близко до цели — столицы вулканологов. Она видна издалека: живописно раскинувшийся на холмах, одноэтажный, деревянный, «самый большой из маленьких поселков Камчатки» — поселок Ключи.
На вулканостанции пусто — кто улетел на сопку, кто, забросив на время науку, помогает в совхозе убирать картошку («вулканы вон уже сколько стоят, они подождут, а картошка нет — замерзнет»), и я с трудом нахожу высокого молодого человека с чаплинскими усиками на бледно-матовом лице — начальника станции Бориса Владимировича Иванова.
По застеленной ковром скрипучей лестнице — будто в старинном особняке — мы поднимаемся на второй этаж станции, минуем бильярдную, музей и попадаем в кабинет, ярко освещенный солнцем. В раскрытое окно смотрит Ключевской. Говорят, что в ясную погоду его купол виден с океана за четыреста километров.
Более тридцати пяти лет станция изучает вулканы. О том, что это значит, я узнаю не только из рассказа Иванова, но и разглядывая термометр, побывавший в вулканической щели, откуда со свистом вырывались удушливые газы, накаленные до шестисот градусов, рассматриваю образцы пород, поднятых людьми со дна кратера, из самого кипящего пекла, вижу снимки ученых, стоящих на краю огненного потока лавы. Изучать вулкан — это не только наблюдать за ним, когда он дремлет, но и быть возможно ближе к нему, когда извержение уже началось, измерять температуру потока лавы, ее вязкость, скорость движения, мерить давление, брать пробы газов... Все это сопряжено с риском, но люди привыкают, не останавливает их и одинокая могила в лесу, на территории станции, с обелиском и короткой надписью на нем: «Памяти Алевтины Александровны Былинкиной, погибшей при исследовании Ключевского вулкана. 1921—1951».