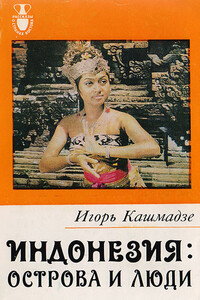Вокруг Света 1970 № 04 (2355) | страница 53
И вдруг открываешь для себя: да ведь оно круглое — Ополье! Явись нужда, так, кажется, и обозначил бы его в виде круга. Потому что оно кругло, как раздольные окоемы, открывающиеся здесь взгляду, как буква «о», столь любимая здешними жителями, как заснеженные земляные валы старых городов, как, наконец, шипучие вьюжные колеса, которые из края в край, по всей опольной округе гонит ветер.
Ветер ли, другая какая сила затянет тебя сюда, к историческим стенам, к ветхим камням, и уже на всю жизнь ты в этом кругу.
Так и «золотой век» владимиро-суздальского зодчества, век белокаменных храмов, на встречу с которыми люди едут в автобусах и летят в межконтинентальных лайнерах, хочется изобразить в виде круга. Этот мысленный круг, охватывающий неполное столетие, прочерчен от строгих, аскетических стен храма с выпуклыми лбами трех апсид и простым арочным пояском по стенам, стоящего в четырех километрах от Суздаля, в селе Кидекша; мимо владимирского Успенского храма с его золотым оглавным шеломом; мимо ставшего рядом Дмитриевского собора, на который будто принаброшена сверху легкая и полупрозрачная накидка с фантастически затейливыми узорами; мимо дворца в Боголюбове и храма Покрова на Нерли — мимо всех этих знаменитых, описанных в летописях и стихах строений. И у точки замыкания, на мелкой речушке будет малый, по преимуществу избяной, городок Юрьев-Польской. А в центре его (хочется сказать: в самой сердцевине Ополья) окольцованный белыми валами белый же Георгиевский собор.
Но странное чувство разочарования охватит, когда окажешься у этой последней черты. После горделивых и стройных храмов Владимира Георгиевский собор видится каким-то старчески оплывшим, стоит грузно и сугробисто. Это ли, думаешь, вершина строительного дерзания, это ли достойный итог целой зодческой эпохи? Не преувеличивают ли знатоки?!
...Каждое из изображений — лев, положивший голову на лапы, слон с когтями на ногах, китоврас-кентавр, воин, мученик, подвижник — каждое из них действительно прекрасно, и к ним хочется притронуться рукой, погладить, удостовериться в том, что это не сон, а прочный камень, мастерски обработанный когда-то резчиком.
Но все вместе? Там сбившейся группой стоят святые воители, там лев «влез» под стол, за которым восседают три ангела, там спящий юноша полулежит среди камней с растительно-звериным орнаментом, отделенный от остальных «отроков эфесских», хотя им надлежало бы находиться вместе, в одной группе. Глянешь ли на лица — в одном угадываются смягченные черты князя-русича, другое строгим профилем напомнит византийца, в третьем различишь усатого жителя Карпат или даже угорца, а вот лицо и совсем уж неожиданное, по-восточному широкоскулое. И только плечами пожмешь: чья ж это прихотливая фантазия собрала вместе и поместила впритык друг к другу столь несоединимые лица, фигуры, сюжеты?