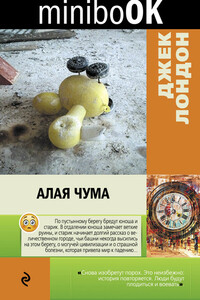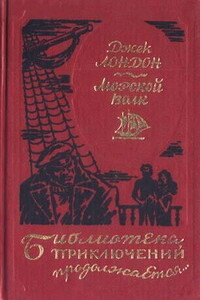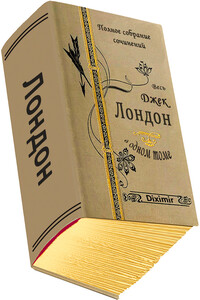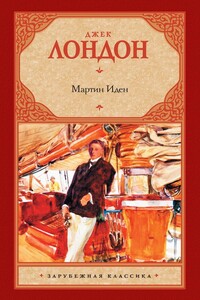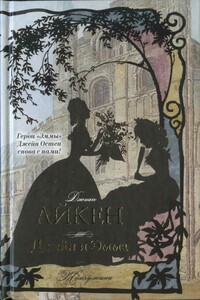Письма Кэмптона — Уэсу | страница 28
Любопытно, что мы, отпрыски случайного успеха, способны на такое отрицание. Барбара принимает существующее, не задаваясь никакими вопросами. «Что вы знаете? — спрашивает эта маленькая, сияющая консервативная женщина. — Сознайте свою неправоту, иначе вы не пробьете себе дороги в жизни».
Да, Барбаре придется узнать, как тяжело жить на свете. Бороться нетрудно и оставаться нейтральным легко, но быть одновременно борцом и носителем новой идеи, стоять незыблемо и, стремясь прямо к цели, принимать все направленные на вас удары и ждать — вот подлинный путь героя. Трудно переносить свое поражение. Трудно почитать изжитый идеал, суливший нам комфорт и уважение. Молодость смеется над этой целью, но людям пожилым она дорога. Трудно остановиться на полном скаку, стремясь к фанатизму, и немыслимо гнать самого себя на страдание и мученичество. Трудно жить, милая Барбара.
Затрудняюсь рассказать о нашем времяпрепровождении. Героем вечера был Браунинг, — Мельвилл прочел нам его «Капонсакки». Голос Мельвилла сам по себе поэма, но Браунинг нуждается в толковании менее, чем кто-либо из создателей прекрасных поэм, ибо им созданы прекраснейшие и величайшие. Было четыре часа утра, когда прозвучали слова воина-святого: «Великий, справедливый Бог! Несчастные!» Как мы его слушали! Эрл ходил взад и вперед по комнате, а Барбара прильнула щекой к моей руке. Ее душа участвовала в борьбе, и моя тоже. Мы все сражались в этой битве. Прочти «Пампилию», и твоя душа преисполнится благоговением; прочти «Капонсакки», и тобой овладеет жажда деятельности. Ты воспрянешь, и тебе захочется прожечь себе дорогу подобно ему, хотя бы ты и был так утомлен, что, казалось, не в силах был бы произнести свое имя, если бы судьбе вздумалось сделать перекличку.
Внутренняя буря замкнула нам уста. Эрл первый нарушил молчание. Глаза его горели, и он мечтательным тоном начал рассказ о том, как он однажды взбирался на гору, против которой стоял его дом. Шел сильный дождь, и подниматься по скользким крутизнам было чрезвычайно трудно, но вид с горы с каждым шагом становился все прекрасней. Его дух с трудом мог вынести это чудо красоты. Маленькое селение погружалось все ниже и ниже, вокруг расстилались ласковые склоны зеленеющих холмов, под затянутым облаками небом темнела полоса воды, а вдали неусыпным стражем стояла серая громада гор. Вот тогда-то под леденящим январским дождем он, стоя на склоне, поросшем дубняком, увидел свою мать, понял свою тесную связь с нею и страстно полюбил ее. Море обширно и полно чудес, но оно чуждо нам. Оно не подпускает нас к себе — оно не наше. Ласковая земля с ее волнистыми формами и возникающими в ее недрах жизнями смягчает нам душу гармонией. Тогда-то он простил судьбе, искалечившей его тело. Скорченный дуб все же остается деревом и прекрасен на общем фоне гор и леса. Этого достаточно, чтобы продолжать жить. На лоне всей этой красоты можно и умереть. Он стоял, обдумывая новую мысль, ощущая чудо и красоту, грустя о тех, кто не может больше видеть косых полос дождя и растущей у ног травы. Раз это прекрасно, то не может ли и забвение каким-то недоступным нашему пониманию путем тоже стать прекрасным? Возбужденный подъемом и опечаленный великой радостью, он вдруг подумал: «С кем? Нельзя прожить жизнь одному. С кем же?» Он повернулся, почувствовав на плече прикосновение чьей-то руки, и увидел улыбку, взгляд и вздымавшуюся грудь той, которая стала его Евой.