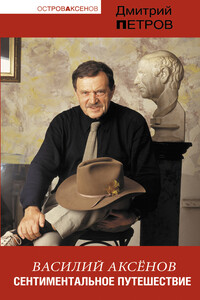Аксенов | страница 53
Но как бы то ни было, а судя по всему, именно тогда
Тогда Алексей еще не играл, но слушал, слушал вовсю. Вбирал этот свинг…
Пластинками менялись. Кое-кто менялся и худо-бедно списанными текстами. Как-то в руки Алексею попало удивительное произведение стиляжной культуры. Анонимное, оно, конечно, считалось подрывным, каким, без сомнения, и было. Речь идет о басне «Осел и Соловей» — своеобразном манифесте тех, кого называли плевелами, отбросами, вредоносными сорняками. Итак, Осел-стиляга, идущий с гулянки в свой Хлев, встречает музыканта-Соловья и просит его сыграть. Но мазурки и сонаты в его исполнении Ослу не по нраву:
Даже сейчас эта местами очень потешная «басня» звучит как своеобразный культурный и антропологический памятник своего времени.
Слово «стиляга», введенное в обиход в 1949 году Дмитрием Беляевым — автором фельетона в рубрике «Типы, уходящие в прошлое» в журнале «Крокодил», — было тогда сродни словам-дубинам вроде «безродный космополит» и «низкопоклонник».
Вот как описывал «Крокодил» стилягу: «В дверях показался юноша. Он имел исключительно нелепый вид. Спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые;…ботинки на нем представляли хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши. Юноша… развязным движением закинул правую ногу на левую, после чего обнаружились носки, которые слепили глаза…
— А, стиляга пожаловал! Почему на доклад опоздал?
— Сознательно: боялся сломать скулы от зевоты и скуки. Мумочку не видели?
В это время в зале показалась девушка, по виду спорхнувшая с обложки французского журнала мод.
— Топнем, Мума?