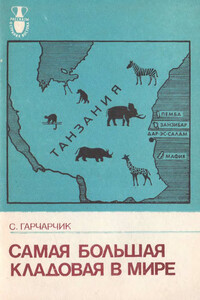Вокруг Света 1995 № 05 (2656) | страница 75
Помню, два моих знакомых художника из соседнего дома, побывав в Париже, назвали Монмартр — Собачьей площадкой Парижа. Мы, молодые, были в восторге от подобного сочетания и смотрели на них, видевших Монмартр, квадратными глазами... Но в нашей тогдашней обыденности, даже несмотря на оттепель, слово «Париж» звучало так роскошно и нереально, что мы играли в свой Париж, в глубине души боясь, что его нет вообще, а если и есть, то мы уж точно там никогда не будем.
В ту пору с одним консерваторским гением был случай, который нами воспринимался не иначе, как анекдот. Я не хочу всуе произносить имя этого великого музыканта — он и ныне здравствует, однажды он в рассеянности прогулялся до Казанского вокзала и в билетной кассе спросил билет до Парижа. Кассирша не растерялась:
— В Париж? Обращайтесь по месту работы.
— Как, — спросил он, — разве в консерватории продают железнодорожные билеты?
Но кассирша, лучше знавшая реалии нашего быта, оказалась права: спустя несколько лет гений свой первый билет в Париж: получил в консерватории.
По-разному у студенческой части арбатского населения разыгрывалась парижская тема. И не только вокруг Монмартра, но и Монпарнаса или Латинского квартала. Например, прилегающие к Собачьей площадке кварталы с театральными и музыкальными вузами кому-то представлялись тем же, что в Париже Латинский квартал. Только там господствовала латынь, а у нас — язык театра и музыки...
Чего греха таить, мы, богемные молодые люди, начитавшись о Париже времен Бель-Эпок, часто заменяли институтские занятия роскошной говорильней за чашечкой кофе в «Праге»... Черный кофе тогда для многих был в новинку, но поскольку он был обязательным компонентом атмосферы нашей «Ротонды», — давились, но пили.
Наверное, у каждого есть свой Париж. И каждый рано или поздно должен побывать в Париже. И не столько из-за того, чтобы увидеть город, который знаешь, но никогда не был в нем, сколько из-за того, чтобы снять с души груз недосягаемости Парижа.
Мой Париж, вмещался в Монмартр, окутанный той самой разноцветной дымкой, которую я впервые увидел на полотнах Моне и Писсарро... На картинах старых мастеров встречались только облака. У барбизонцев облака уже перестали выглядеть идиллическими и над буйной зеленью, и высоко в небе. Но эту легкую, как печаль, как грезы, висящие над осенним Парижем, дымку, — то розовую, то фиолетовую, а чаще — лиловато-розовую с добавкой охры, кажется, оценили и привнесли в свои полотна лишь импрессионисты.