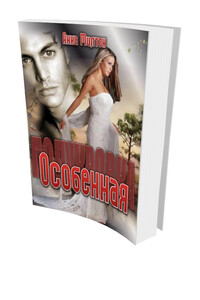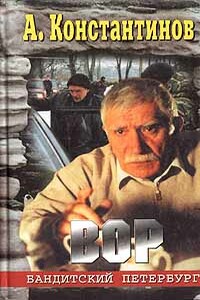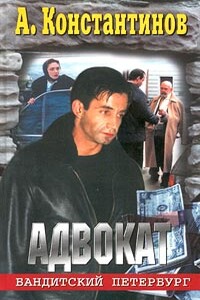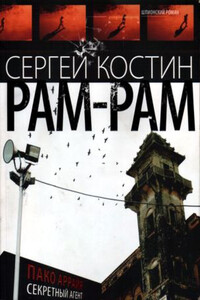Полукровка. Эхо проклятия | страница 61
— Хорошо, если немножечко, то можно, — улыбнулась Самсут, стоя за его спиной и с неподдельным интересом наблюдая за тем, как ловко и забавно ее отец шаманит над туркой.
Наконец, они снова уселись за стол, шутливо чокнулись глиняными кофейными кружками. («Не понимаю я их европейской дозы, — словно оправдываясь, пояснил отец. — Накапают какой-нибудь бурды, типа „эспрессо“, в наперсток и, сидят, цедят по часу. А хорошего кофе должно быть много!») Какое-то время пили молча, каждый думая о чем-то своем, потаенном.
Первым не выдержал тишины Матос:
— Так о чем ты хотела поговорить со мной, джан?
Самсут отставила чашку на край стола, собралась с мыслями и, выдохнув, задала отцу самый главный, единственный по-настоящему мучивший ее все эти годы вопрос. Вопрос, отнюдь не связанный с мифическим наследством:
— Скажи, папа, как ты смог? Как ты решился бросить нас?.. Неужели все эти чертовы Солженицыны и Сахаровы на самом деле значили для тебя больше, чем мы с мамой и бабушкой?
Матос втянул голову в плечи и на несколько секунд зажмурился, словно пытаясь заглянуть куда-то в глубь себя.
— Значит, Гала показывала тебе газеты? — тихо спросил он.
— Нет, мама мне ничего не показывала. — Самсут догадалась, о чем идет речь. — Это случилось гораздо позднее, когда я уже училась в институте и получила пропуск в журнальный зал Публички. На третьем курсе я специально сходила в газетный фонд и полистала газеты тех дней. Вот тогда и узнала, что «талантливейший советский актер Головин», не выдержав «ужасов Советской системы», попросил политического убежища в «подлинно-демократической стране Швеции» в знак солидарности с гонимыми писателем Солженицыным и академиком Сахаровым. А также выражая «своим смелым поступком» протест против ввода наших войск в Афганистан.
— Да, именно так тогда и написала «Ленинградская Правда», — печально качнул головой отец. — Другое дело, что всё это — неправда! — и, невесело усмехнувшись, вдруг неожиданно процитировал: — «Маугли обернулся посмотреть, не смеётся ли над ним чёрная пантера, ибо в джунглях много слов, звук которых расходится со смыслом». Помнишь, это еще одна твоя любимая книжка?
— Что же тогда было правдой? — растерянно всмотрелась в отца Самсут.
— Стыдно об этом рассказывать, дочь… Ну да чего уж теперь, ведь почти двадцать лет прошло, — обреченно махнул рукой Матос. — Как ты помнишь, наши гастроли продолжались ровно неделю. Вечером, накануне дня отъезда, шведские актеры пригласили нашу дружную компашку: Ольгу, Михалыча, Антона, Севку, Лариску, ну и меня — в местный кабак. Выпить за содружество, так сказать, родов искусств. А в те годы выезжающим за границу артистам выдавали на руки валюты — ну просто мизер. Понятно, что все мы тряслись буквально над каждым эре, а тут вдруг — ресторан. В общем, половину вечера мы выпивали-закусывали исключительно на халяву. За все платили шведы. Так мало того — наши еще норовили ухватить и кусок побольше, и стакан поглубже… Смотрел я, смотрел на сие весьма омерзительное, надо сказать, зрелище… И так мне, дочь, сделалось от всего этого противно, что я просто не выдержал, достал из кармана свой бумажник засаленный, подошел к барной стойке, высыпал всю свою валюту и заказал эдакое «алаверды»… Ох, и выпили же мы тогда, помнится!.. Утром проснулся в номере: голова трещит, а на кармане — мыша скулит. Днем уезжать, а у меня ничегошеньки — ни подарка, ни полподарочка для вас не куплено… А денег-то нет. То есть вообще нет! Даже на «жвачку»… Короче, пошел напоследок по Стокгольму прогуляться, башку просто проветрить… Да нет, вру. Просто никаких сил не было смотреть на то, как остальной наш театральный народец чемоданы пакует да сувениры-шмотки по дорожным сумкам расфасовывает… До сих пор не понимаю, каким таким ветром тогда меня в этот чертов «НК» занесло. Это такой, самый крупный в Стокгольме универмаг, рядом с Гамла Станом. Не была еще?.. Я-то с тех самых пор туда ни ногой. Рекламу одну увижу — и всё внутри уже начинает выворачивать. Уши алеют, щеки пунцовеют.