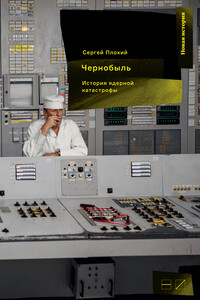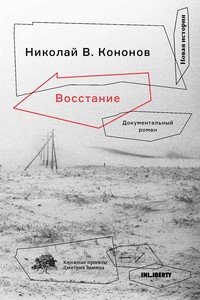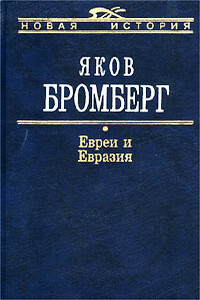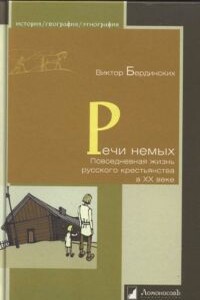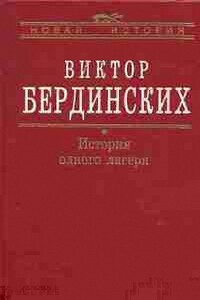Крестьянская цивилизация в России | страница 55
Мне кажется, что каждая небольшая деревенька, сельцо, большой или малый город имели свою уникальную духовную пневмосферу. Атмосфера такого рода была традиционна, во многих местах остатки ее ощущаются и поныне. Человек, создавая среду своего обитания, создавал вокруг каждого населенного пункта своеобразное духовное поле. Для крестьянской России 20-х годов, а кое-где и в 40-е годы в духовной атмосфере этих небольших населенных пунктов были свои общие черты. Радость и огорчение людей проявлялись открыто, ярко, страстно. Сдержанность даже порицалась, почиталась за бесчувственность («эко каменный какой»). Напор молодой жизнерадостности, о котором с тоской вспоминают нынешние старики (именуя наше время серым), был очень велик.
«Жизнь до войны была веселая. Уедешь пахать или боронить в поле. В поле едешь очень рано, песни петь не хочется, а с поля — не считаешь, что устал, начинаешь песни. Как сядешь на верховую и до самого вечера, не останавливаясь, пели песни. Как-то на душе все было хорошо. Придет сенокос — то же самое. Все мужики и бабы на сенокосе! И тоже смех да радость. И вроде не видаючи день пройдет. Потом подходит страда. Жали серпом. В поле, конечно, только смотрели друг на друга, чтобы никто не опередил. Жали помногу, серпом выжинали по 30 соток на человека. А если вязать, за жаткой надо было навязать 300–350 снопов. И все их поставить суслоном или бабками. А домой тоже — с места тронешься, когда солнце сядет на место. И все это было с таким весельем и песнями. Или сядешь поужинать или пообедать, так не было никаких крупных разговоров, только смех, и все были какие-то жизнерадостные», — вспоминает К.А. Головешкина (1920).
Всякое крупное событие в жизни воспринималось очень эмоционально, дар удивления возводил в ранг чуда происшествия, по нашим нынешним меркам незначительные, «мелкие» и нелюбопытные. А между тем именно такая внимательность ко всякой жизненной мелочи культивировала любовное отношение ко всему происходящему вокруг тебя, личной судьбе. «Выезжать в поле было великой радостью. Это утро считалось праздником» (А.И. Головнина, 1910).
Можно сказать и так, что неразвитость индивидуального сознания позволяла индивидуализироваться только деревенскому коллективу.
«Раньше мы жили плохо, материально-то. Ой, а сосед с соседкой встретятся — наговориться не могут.
Жили бедно, но гораздо веселее и дружно раньше жили. Все вместе работали, кто чего скажет — смеемся до слез, никогда никаких ссор не было. А как жить стали богаче, стали завидовать друг дружке. Народ раньше-то лучше был» (М.В. Жданова, 1906).