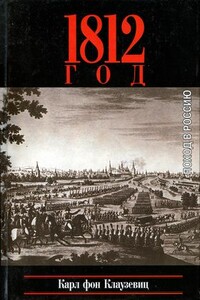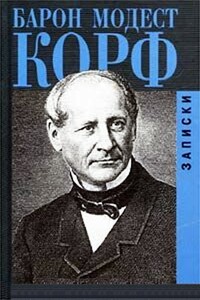Моя жизнь и люди, которых я знал | страница 59
Правда, в эту последнюю частушку, при всей ее нелепости, проник все же маленький клочок реально бывшей истории: ведь железная дорога к Саратову первоначально была начата не с Рязани, а с Тамбова, и это важное для всей этой части России событие успело увековечиться в частушке.
После революции характер частушек радикально изменился — они стали реально связаны со своим временем, хоть и не слишком для этого времени лестно. Вот, например, так:
Я смягчил не совсем изящное звучание текста этой частушки. Но эти творения подлинно народного наблюдения и размышления не стеснялись в выражении результатов своих наблюдений действительности и размышлений по ее поводу.
Революционное отрочество
Февральскую революцию я, можно сказать, увидел воочию из окна своей комнаты. Услышав крики на улице, я подошел к окну и увидел, что по противоположной стороне Немецкой во всю прыть удирает городовой, придерживая руками свою шашку и полы шинели, а за ним несется кричащая и улюлюкающая толпа, его ловящая. Это зрелище стало как бы символическим обобщением смысла Февральской революции. Но, как я уже говорил, ни она, ни Октябрьская революция долго не вносили существенных перемен в повседневный обиход провинции, далекой от Москвы и Петрограда. Летом 1917–го и 1918 года мы жили на дачах на разъезде в семи верстах от Саратова; зиму 1917–1918 года я ходил в третий класс своего училища; летом 1918 года поехал с отцом в Царицын, и только когда мы доплыли до Астрахани и должны были из‑за военных действий тотчас же вернуться в Саратов, я ощутил достаточно отчетливо, что произошли великие перемены во всей нашей жизни. Я удивил маму, вернувшись из Царицына с бровями — до тех пор они были почти незаметны, а тут вдруг сильно потемнели.
Но серьезные изменения в нашей жизни начались во второй половине 1918 года, о них я уже рассказал. Отец уехал в Москву, не найдя никакого контакта с новыми советскими властями Саратова; из квартиры на Немецкой улице пришлось уехать, из школы я ушел. Зиму 1918–1919 года я никуда не выходил из Костиного дома на Вознесенской улице и без конца читал все новые и новые книги. У Кости было тридцатитомное собрание сочинений Диккенса в издании «Просвещения», и я прочел почти все диккенсовские романы, начиная с превосходно (хоть и вольно) переведенных Иеринархом Введенским «Записок Пиквикского клуба». Этот роман — лучший роман Диккенса, с ним может соперничать только предпоследний его роман «Наш общий друг», но я оценил его по достоинству много позднее. Костя, вернувшись из армии, подарил мне это собрание сочинений Диккенса — оно навсегда осталось доброй памятью о нем. Что я читал еще в эту зиму, не могу вспомнить.