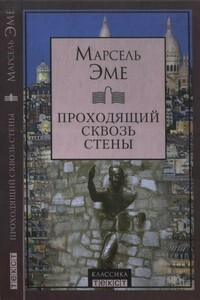Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 73
— Вы Екатерина Александровна Чувашева?
— Да.
— Я к вам от Веры Лерс. Вы знаете, в чем дело?
— Знаю. Говорите. Здесь никто не услышит.
Старичок, обремененный паклей бороды и разными мандатами, преобразился. В комнате сидел Высоков, равно безразличный к шику «Монико» и к нищете спиридоновского логова, занятый одним: «Скорей бы убить», ненавидящий эту холодную сугробную страну, где чавкают и шамкают, где убивают с неохотой, нудно, медленно.
И все же даже Высоков, увидев Катю, несколько смутился. Он любил давить своими стопудовыми, свинцовыми глазищами различные фарфоровые глазки, чтобы пугались, отвертывались, знали: «Мы — бирюльки. Высоков — смерть». Катя не отвернулась. Вместо фарфора зияла чудовищная глубь: «Я верю, я убью, но я тебя, я всех вас затащу с собою вниз, где свежесть, правда, тишина». Это было не по вкусу. Девчонка, а смеет так смотреть!.. Порадовавшись бороде, которая скрыла некоторые мелкие движения взволнованного подбородка, Высоков решил впредь на девушку не глядеть. Взял с ящика книжку. Оказался Лермонтов. Буквы смесились в ледники, в синь глаз, в провал. Отбросил. И, уж не глядя ни на что, опустив тяжелые, лимонные веки, стал излагать суть дела. Катя слушала. В такт словам крылья бровей вздымались, сбирались, бились, как бы заполняя комнату ветром, беспокойством, готовностью сейчас — да, да, сейчас, не завтра — сделать все.
Это знали с детства, то есть брови, тревогу и готовность. Первой узнала мать в испуганной смуглянке, прибегавшей ночью с маленьким десертным ножиком, готовая маму оградить от гадкого нотариуса, от кашля, от смерти, которая приходит, как в сказках Андерсена, взять душу — тогда ведь надо петь или умереть самой. Семилетняя Катя пела: «Дети, в школу собирайтесь», — единственное, что знала, и много раз, ложась на стол, как это сделала мертвенькая бабушка, пыталась умереть за маму, но ничего не выходило. Мать свою, болезненную вдову полковника Чувашева, погибшего при Мукдене,[36] любила исступленно. Не игры, не игрушки: могла всю жизнь дышать этим сладким запахом полутемной, с синими шторами, спальни, с настоем камфоры, валерьяновых капель, нафталина и сухих пучков мяты в шкафу среди белья. Жили бедно, но с достоинством, то есть крахмальные накидки на подушках, батюшка в Крещение, копейку нищему, Кате воспитание. Какой-то злой дух, страшней кощея, нотариус, маме писал шершавые, противные письма. Требовал денег. Мама плакала: опишут обстановку, бабушкино серебро. Катя думала, что «обстановка» — это самое прекрасное: то есть полочка над умывальником с лекарствами, с облатками в коробках, на которых незабудки и цыплята, с пилюлями в серебряных баночках, с булькающими бутылочками, таинственно шелестящими крыльями рецептов. Если это опишут, а опишут — значит, отнимут (как мама сказала), нечем будет смерть отпугнуть, и мама ляжет на стол, скрестивши руки. Уж лучше бабушкино серебро, это вроде пятачка, который ей дали раз на именины (купила карамель «Короля сиамского», десять конфет). Это ничего. Так думала. Когда же злой дух пришел за обстановкой, храбро выбежала в маминой ночной рубашке, волочащейся по полу: