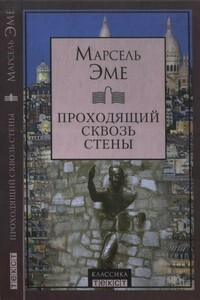Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 72
Общий восторг. Лакеи, почуяв торжественность минуты, тащат гуртом пять бутылок. Кадык шепчется с французом, считает, обдумывает. Наконец, вынув из кармана голубенькую книжку, выписывает чек на предъявителя — аванс.
Саб-Бабакин от избытка шампанского и патетических переживаний окончательно одурел. Требует детский стульчик и чашку теплого молока. Становится на колени.
— Я с женой и с детками, мы будем о вас каждый вечер молиться.
Высоков, чуть усмехнувшись:
— Спасибо. Молитесь Христу. Люблю Христа. Особенно за то, что пустил к себе детей. Высшая невинность. Во имя Христа пролью кровь. Не мир, но меч.
Советник, все еще не успокоившись, лепечет:
— Кговь? Как стгашно! Он пгольет кговь!..
Мариетта:
— Да, да! Много крови!
И в неге шепчет французику, среди дел не забывающему прижать, примять и прочее:
— У Румпельмайера…
Саб-Бабакин хочет поцеловать Высокова. Нет! Брезгливо усмехаясь, Высоков встает:
— Спокойной ночи. Мне пора.
В глазах свинцовая, невеселая радость:
— Восемнадцать устраню.
Качаются девицы. Мяукает труба. Негр вертит зеркальные двери, среди зеркал, как в лабиринте, шагает, путаясь, грустя о черной Африке.
На улице промозглый рассвет. Отовсюду течет. Рабочий злобно ругается. Воз с репой. Жизнь. В кармане Высокова — чек, узел многих жизней. Презирает всех — и пивших в «Монико», и тех, в Кремле, и неизвестных, которых пошлет убить, и эту репу. Скучно! Позевывая, затягивается египетской приторной папироской:
— Надоело!.. Если бы кто-нибудь знал, как надоело!..
20
Два месяца спустя, в февральский вечер, когда в Париже мокрый ветер с Ла-Манша вдувал в сердца весну и грусть, когда на асфальтах бульваров ежились груды мимоз, когда нежнейший негр у входа в «Монико» уже начинал кружиться в чаще зеркал, по глухим сугробам Спиридоновки, перебираясь с горба на горб, брел скромный старичок.
Подошел к домику, жалкому, плюгавому. Забор пожрали спиридоновские печурки. Сугробы домик затолкали, как старушку в очереди. Вошел в незапертую дверь, с минуту потанцевал на льду площадки, не выдержав, упал. Раздался «черт», довольно юный и задорный, кого-то пробудивший. Вышли. Зашамкали. Старичка втолкнули в большую комнату. Пусто. У окна ящик, на нем громадная голубоватая картофелина, книжка потрепанная и флакон от духов, превращенный в чадный светильник, в углу — подобие кровати. Старичок вгляделся, остолбенел. Среди меха бушевали синие озера глаз. Глухой, грудной голос:
— Садитесь. Сюда. Стульев нет.