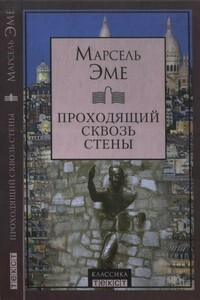Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 67
Еще спокойно Чиру:
— Подсядем?
А внутри: бежать? Спастись? Нельзя! Прежде знал: умирают от пули, от голода, от злобной скуки и докук, но чтоб от нежности?.. Нет, этого не знал — впервые. Вдруг прояснился путь: от большеголового младенца в избе Сибири, от рабочих, громко топотавших в переулке сюда, к чужой, быть может, злой и злобной, к врагу. А нежность все сильнее вздувалась, чуял ее всем: в глазах она — сперва туман, потом зияние. В ушах смутный гуд. Соль во рту. Холодеющие пальцы. Запах детства с тряпьем, с животной лаской, с яблоком под подушкой. Забирала всего. Кажется, сейчас умрет. Позади: раскиданные числа, лоскуты фигур, последние припадки плана, судороги равновесия. И тают, как метель, на ее вязаном платке. Имя? Слышит — «Катя». Встает.
И все же отчаянным, никем не понятым усилием одолевает. Снова: Курбов, работник, член, винт, зодчий. Нет! Так не сдастся. Он — в притоне. Это — агенты белых. Впереди ликвидация, скрепы, победа.
Чиру, уже успевшему и умилиться, и кончить чашку, в третий раз решительно:
— Подсядем.
19
Чир правильно подметил все. Катя действительно была не из местных девок. Верно и то, что хотя сивуху она глотала храбро, но предпочитала мелкими глоточками отхлебывать горячий шоколад. Как же она попала в «Тараканий брод»? Зачем ей понадобилось в метельную колючую ночь забраться черт ведает куда? Может, за кокаином дедушки Тимоши или (дома — родители) спать с неотразимым усачом, уже поймавшим в сети белорыбовское сердце? Тогда при чем тут Пелагея?
Чтобы ответить на эти тревожные вопросы, надо повернуть назад, по еще синеющим среди сугробов следам, до комнатки на Спиридоновке, и дальше — к Брянскому вокзалу[34]. Следы меняются: вместо ножки с высоким пронзительным каблучком — тупой сапожище. Еще дальше, без следов, — по нюху. Много городов, границ и фронтов. Наконец, зеркальные вращающиеся двери парижского ночного кабака «Монико». У дверей — негр в красном фраке. За дверями — разгадка чудесного появления Кати и многого другого.
Конечно, «Монико» не «Тараканий брод». Вместо Ивана Терентьича вьется метрдотель, статный, гладкий, сгибающийся предусмотрительно, как перочинный ножик, готовый тотчас же сервировать дюжину мареннских устриц, бутылочку бургундского, любовь и счастье. Входишь — трах по голове: грохот, охание, визг джаз-банда. Малайцы прыгают, как обезьяны на ветках. Уронив губу чуть ли не на пол, один вдруг припадает к причудливо изогнутой трубе и жалостно мяукает. Другой оседлывает барабан, яростно бьет палками, ногами, головой в тарелки, в медные тазы, в шкуры, в пузо какого-то малого малайчика. Звуков столько, что они не успевают оседать, загромождая залу медной рухлядью и битым стеклом. С ними — серный дым «гаван» и парфюмерия английских папиросок. Свет люстр также не может течь, сгущаясь, он плавает среди гула и дыма масляными пятнами.