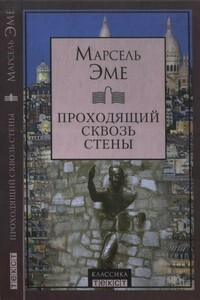Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 66
Николай и Людмила Афанасьевна долго ждут Чира. Молчат.
Курбов — о своем: о покалеченных прекрасных ромбах, о скрежете сурового колеса, о желтых теплых шейках, мерзко хрустящих под руками. Белорыбова же, охмелев и разомлев, исходит в молочном паре мечтаний. Даже хлеба с колбасой не доела. Глядя, как Лещ щиплет грудь Танечки, Людмила Афанасьевна вздыхает четко, громко, как будто у доктора на осмотре, когда ее выслушивают: вот я, Виктория, кто-нибудь меня, с усами, толстый, как в романе — «так любили…».
Наконец — Чир. Заспанный и успокоенный. Все его жесты дышат миром, благодатью. Причин не объясняет, а на сердитый окрик Курбова, зевнув сначала, так зевнув, что кожа, не выдержав, затрещала, — кратко:
— Ни черта!..
Собираются идти. Вдруг вваливаются трое. Вожаком — кривой и угреватый, Пелагея. С ним двое, не тараканщики — тоже здесь впервые: мужчина отменно плотный, с выправкой оловянных кирасиров, с закрученными туго русыми рогаликами усов и маленькая женщина. Лица ее не видно: платок весь инеем разузорен.
Чир: не эти ль? Мало Пелагее шуб, он путается с кем-то явно несоответствующим! В оба. Усач — из интеллигентов, девка — не местная, самогонку дует исправно, но чашку держит по-особому, будто в кондитерской пьет шоколад. Чир знает таких — в Ялте мигом раскладывал на дорожке, в наше удовольствие…
Людмила Афанасьевна отнюдь не интересуется манерами девицы. Вздыхает еще чаще, еще громче; из молочного пара вырастают рогалики усов. С белорыбовским сердцем неладно, мечется туда-сюда, как беспокойный квартирант. Неужели этот? Плотный, сдобный, распластавшийся где-то в предчувствиях, он сладок, как дивный бутерброд. Пелагея зовет его «Иваном Ильичом». Иван — ну да, Иоганн, а я — Виктория. Дома — нежно: Ваня. Будет щипать высунутый из-под одеяла белый, сонный локоть. Истома.
Курбов:
— Ну что ж? Подсядем, что ли?..
И сразу — обухом. Девушка разматывает платок. На лице, слегка испуганном, под крыльями бровей, то улетающих легко ввысь, то падающих обвалами, — синь, сквозь мамины шторки — звезды, последняя таинственная схема мировых совхозов, сердца, ночи, глубины. Лицо такое, что все — камнями. Лещ поднял кулак — не опускает, Зильберчик смеется ласково, по-бабушкиному, умиленный Чир, забыв про Глашу, про чашку с коньяком, дрожит: как же? разве такое может быть? Поражает слабость, почти предсмертная, когда приподнимают на простыне: воск, пух, дыхание, а в этом невиданный накал последней воли, сталь спирали — к небу, спертость — меж ребер — целый мир. Каждый вспоминает детство, большая книга, о таких — легенды. С Николаем катастрофа. Курьерский — вниз с насыпи, еще последние вагоны плавно скользят по рельсам, а машинист уже — комок.