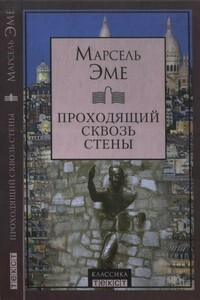Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 29
Николай его встретил на собрании. Туземец-щенок читал доклад об «Использовании легальных союзов». Вздор, а где не просто вздор, там ересь, синдикализм. Николай его мимоходом разоблачил. Такому надо таскать прокламации, а не с ответственным докладом выступать.
Ждут, что скажет товарищ Иннокентий. Медлил. Был очень мягок. Да, принципиально, конечно, но доклад все же весьма интересен, благодарить докладчика и прочий мед. Николай был возмущен. Вышел с цекистом.
— Товарищ, зачем вы прямо не сказали — вздор? Ведь это развращать таких балбесов.
— Вы очень молоды. Он тоже. Вы умней его, но не старше. Да, да. Вот вы не понимаете, что он придет и ляжет к стенке: «Приезжие сказали, значит, я — ничтожество, зачем же жить?» И будет ему плохо, так плохо, — камень голова, щемит, клубок под ложечкой. А плохого много и без нас…
Николай жил двадцать два года, много видел. И вдруг неожиданно, как руку на плечо — что это?.. Растерянно замер. Остановился даже у голубенькой калитки. Товарищ Иннокентий, взглянув, увидел приподнятые брови.
— Ну, что там!.. Я ведь не против вас… А просто надо пожалеть. Без этого и дня не проживешь.
«Жалеть!»
— Жалеть нельзя — для дела вредно.
Товарищ Иннокентий вздрогнул (ему черед), чуть двинул бровью — этого еще не слышал. В первый раз нагнулся — такая глубина. Не знал, что, вытянув худую шейку, щурясь синим близоруким глазом, заглянул в грядущее. Ласково пробормотал:
— Не так, не так…
И, чуя, что словам нет власти над жестокой бледнотой Николая, хотел его пронять беззлобным смехом:
— Разве у нас в программе сказано, что нельзя жалеть?..
Николай еле выжал:
— Может быть. Ну, мне сюда. Прощайте.
Товарищ Иннокентий долго вслед глядел. Потом, печально усмехнувшись, побрел к какой-то фельдшерице, где ему дали ночевку. Хозяйка варила варенье. Пенки в тарелке с голубой каймой. Спросил: как ягоды этим летом, не дороги ли? Вдохнул сладкий пар. Вспомнил что-то, и на губах, где расползалась скрученная папироска, почувствовал сначала вкус пенок, потом печальный материнский поцелуй. Уже вечерело. Подошла собака — старая, с седой бородой, жалобно подышала в руку. Товарищ Иннокентий подумал о Николае — как глядел в упор. Захотелось прилечь. Болезнь сказывалась. На этот раз он смутно порадовался ей — ущербу, слабеющему ходу разреженного и разряженного больного сердца, прохладе, вечеру, концу. Заглянув куда-то, вдруг отяжелел. (Через год, в пятнадцатом, он умер, не увидев, чем закончился вот этот спор, в нежаркий летний вечер, по дороге где-то, кажется, в Уфе, когда сочувствующая фельдшерица варила варенье из лесной малины, а в переулке белые белели щеки и вспыхивали жесткие глаза.)