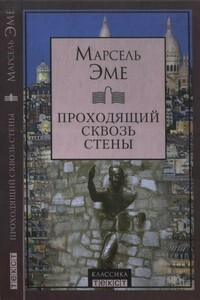Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней | страница 108
Сначала он пытался артистически перевоплощаться: стать гейшей и, подымая с земли кленовый лист, им, как веером, обмахивал веснушки. Но вскоре понял: безнадежно. Пел просто. Давали мелочь. Зина теперь тоже подрабатывала по категории беременных, «карточка А». Сынишка ел картошку, супруги суп на картошке. Все это было хоть печально, но выносимо. Хуже — страх. Иосиф Пескис с младенчества боялся мира. Вселенная, а следовательно, и Москва, и комнатка в Николопесковском — походили на девственные леса, полные засад: огромных микробов, бомб, побоев, тюрьм, расстрелов. Когда он полоскал рот (воды никогда не пил, а глотая суп на картошке, утешался: он ведь кипяченый), чувствовал: заболевает холерой. Чесался бок: укусила, сыпняк. Пел: схватят, недозволено. Шел: схватят — зачем? куда? откуда? Каждый человек ему казался чекистом, особенно если он шагал уверенно: ясно — с мандатом! И часто гейша, обрывая свой кокетливый вой, при виде кожаного шлема или меховой ушастой шапки стройной ланью неслась по бульвару.
Сейчас же Пескис пел и думал: даже убежать нельзя, стоит только расставить шире ноги, и половина брюк немедленно отвалится, улика, отыщут, засадят, напечатают в «Известиях»: «Иосиф Пескис»… Ой!
Братец Наум, от ужаса переживая смертельный зуд в желудке, но зная — ничего не поделаешь, — назвался груздем и прочее, стойко приблизился к извергу Ашу, то есть к Иосифу Пескису и, не дав ему допеть о первом призе, пробасил:
— Сын мой, следуй за мной!
Пескис задрожал, но скрыться не попытался — брюки! предательские брюки!.. Рысью он помчался рядом с огромной глыбой, шагавшей в Кривоарбатский. Навстречу им кидалась из палисадников, из двориков весна, в виде клейких веток, глянца луж, собачьих свадеб. Также — люди. Но никто не знал, что этот огромный оголтелый бык и трусящий рядом жалостный теленочек следуют на бойню, замирают оба от предсмертного томления, прощаются с каждой лужей, с каждой сукой (кому же охота умирать?).
Час спустя, приступая ко второй бутылке, смертники пили на брудершафт. Наум сказал: «Хер», после «Иосиф Прекрасный», Пескис: «Эпидемия», «Певучий Дунай». Облобызались. Вошел кто-то третий, вовсе не веселый. Посидел с минуту, а после отозвал в переднюю Наума. Нервы, хотя пузатого, но все же деликатного героя, не выдержали, и, слушая угрюмое шпынянье Высокова: «Вы и-ди-от. Тот — большой, высокий, а это карлик. Тому лет пятьдесят, если не больше, это мальчишка. И, вообще, никакого, слышите вы, никакого сходства. А деньги пропили?..» — братец не сдержался, заплакал. Весь сразу замок и готов был, моля о снисхождении, замочить сухие, известковые щеки Высокова, но тот, зловеще лязгнув дверной цепочкой, спасся. Оставалось выложить обиду этому лже-Ашу. Жиденок был кротчайший, и в глазах Наума, продолжавших лить щедро влагу, он с каждой рюмкой обрастал кудрявой белой шерсткой, превращаясь в пасхального барашка.