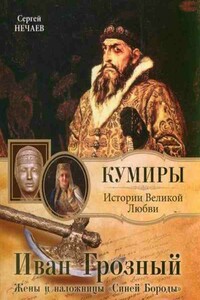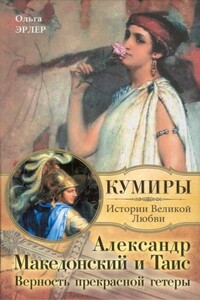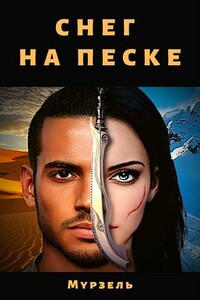Петр Чайковский. Бумажная любовь | страница 108
— Вы хотите заслужить репутацию благотворителя! Хотите, чтобы о вас много говорили, как о дамах, занимающихся благотворительностью ради моды! — кричал сквозь слезы Василий Андреевич. — Знайте же, что я желаю быть жертвой вашей слабости к популярничанию, и не смейте надеяться, что я стану считать вас своим благодетелем!
«Я отвечал ему очень холодно, что предлагаю ему учиться, как он того хотел, как можно усерднее и вовсе не думать о том, зачем и как я взялся помочь ему в этом деле. Что касается его подозрений, то сказал ему, что мне совершенно все равно, чем он объясняет мои поступки, и что разуверять его я не имею ни времени, ни охоты; что же касается того, что он не считает себя обязанным быть мне благодарным, то даю ему полную свободу и в этом отношении. Затем сказал ему. что уезжаю, что видеться с ним не буду, и просил его вообще обо мне не думать, а думать лишь единственно о своем учении», — писал Чайковский об этом досадном инциденте баронессе.
Баронесса фон Мекк выскажется на сей раз довольно резко: «Насчет Вашего protégé Ткаченко, простите меня, милый друг мой, скажу Вам, что он мне очень, очень не нравится и что я бы ему дала совсем другой ответ. Ваш слишком возвышен, слишком великодушен для такой дрянной натуры, а я бы ему дала ответ самый логичный: он не хочет быть жертвой, я не считала бы себя вправе навязывать ему такое положение и предоставила бы ему самому заботиться о себе. Это, во-первых, человек без сердца, потому что, если бы оно у него было, он бы не мог, если бы даже и хотел, не быть благодарным. Во-вторых, человек, должно быть, без всякого образования и нравственных понятий, а начитавшийся всяких книжек и наслушавшийся учения нигилистов. Самолюбие и желание отличаться непомерные, вот он и кувыркается, чтобы обратить на себя внимание и удивлять, по его мнению, отсталые понятия. Такие натуры, на мой вкус, отвратительны, они гроша не стоят, и их, как дурную траву, следует вырывать из полей».
Через несколько дней Ткаченко явился с извинениями.
— Простите меня, Петр Ильич, — лепетал он, опустив глаза. — Страдания, перенесенные в детские годы, привели к тому, что порой я делаюсь будто бы сам не свой и начинаю молоть всяческую чепуху. Право, мне так неловко перед вами, что я готов наложить на себя руки, если это поможет мне заслужить ваше прощение.
«Он действительно сумасшедший, да еще одержимый навязчивыми мыслями о суициде», — подумал Чайковский.
Спустя полчаса успокоившийся Василий Андреевич ушел восвояси. Чайковский чувствовал себя прескверно — болел затылок, стучало в висках…