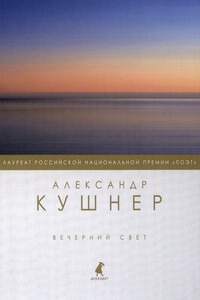Окно выходит в белые деревья... | страница 97
с вороватой повадкой,
тороватой. —
Есть сумленье у меня
в печатном деле:
как бы мы проруху в нем не проглядели».
Государь Иван Васильевич Грозный
все же был Ивана Федорова крестный.
Самолично клал под пресс бумагу дерптскую
и разглядывал,
тая улыбку детскую,
и показывал гостям заморским званым:
«Вот какие наши русские Иваны…»
Царь насупился:
«Какая тут проруха?»
«А проруха
от печатного духа.
Ежли будет книг во множестве великом,
то холопы уподобятся владыкам.
Ну, а вдруг в башку втемяшится Ивашке
отпечатывать подметные бумажки?
Рукописное —
и то опасно словушко,
а печатное —
слышнее, чем соловушка.
Почивать оно тогда не даст и вовсе…»
Царь задумался:
«Ты, дьяк, не суесловься.
Есть ли письма те подметные
аль нету?»
«Могут быть…
Закрой ты, царь, печатню эту».
«А Ивашка?
Длань моя карать устала».
«Намекнем.
Дадим в дорогу сала».
Государь Иван Васильевич Грозный
был умен,
хоть и не был умным прозван.
Пил и пил он в эту ночь,
лицом хмурея,
но его не утешала романея.
Темным людом править —
станешь сам тупица.
Править грамотными?
Лучше утопиться.
Вишни-яблони срубить под самый корень,
чтобы слуха соловей не беспокоил?
Срубишь —
будет петь на иве,
на раките.
Царь был добр к Ивашке.
Молвил:
«Намекните».
И намекнули.
Федоров Иван
прощался с государевой печатней,
и литеры,
спеша,
в мешок совал —
их пощадили редкостной пощадой.
Лист подобрал.
Расправил уголок.
На нем поставил жирно и гвоздасто
опричника подкованный сапог печать
благодаренья государства.
Подметных писем в штанбе[5] не нашли,
но ведь в глазах опричнины подметна
любая буква,
в коей соль земли,
а не лукавство льстительного меда.
До глубины жестоко уязвлен,
Книги, похожие на Окно выходит в белые деревья...