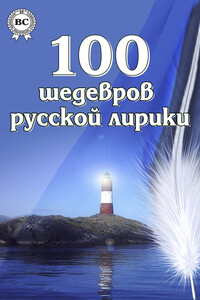Окно выходит в белые деревья... | страница 83
и начал чуть-чуть пританцовывать около гостьи,
сидевшей
на старом рассохшемся табурете,
сняв туфли, а ноги в промокших чулках направляя
в блаженную сторону электроплитки.
Глаза у хозяина были такие,
как будто, не зная о ней ничего,
он знал ее в детстве, знал ее в юности,
ее детей принимал из нее,
и ей помогал мокасины стаскивать с мужа,
и где-то рядом сидел в кафе,
увидев мысли о самоубийстве,
витавшие в легком облачке дыма
над чашечкой кофе в ее руках.
Но он, играя на этой свирели,
не выражал снисходительной жалости,
а этим кружением, этой мелодией
и грустными, но улыбающимися глазами
гостье своей говорил:
«Все пройдет.
Конечно, и жизнь пройдет — что поделать! —
но если мы живы, зачем умирать прежде смерти?
Мы все обреченные, словно коровы с рожденья,
но есть еще счастье играть на свирели
или послушать чужую свирель.
И в каждом из нас есть, наверное, звуки,
которые кажутся неизвлекаемыми,
но стоит лишь тихо закрыть глаза
и протянуть ожидающе руки ладонями кверху,
как вдруг окажется, будто подарок,
в них деревянное тело свирели,
и стоит лишь прикоснуться губами
к дырочкам круглым, просверленным в тайну,
вместе с дыханием выйдет из нас
наша единственная мелодия,
и жизнь тогда никогда не пройдет,
а смерть пройдет, заслушавшись жизнью».
И гостья, слушая эти слова,
произносимые только глазами
и пританцовывающей свирелью,
стала не то чтобы плакать, — а освобождаться слезами,
слезы рожая, как тысячи малых детей,
и незаметно сама для себя уснула
на алюминиевой раскладушке,
укрытая старой солдатской шинелью,
пахнущей миром, а не войной.
Проснувшись, она увидела
прежде всего картины.
Картины висели на стенах, стояли и просто валялись.
Они непохожими были на те картины,
которые с мужем они выбирали,
себе обставляя дом,
в галереях Гиндзы.
Там были картины, похожие на добавление к мебели.
Картины Гиндзы — роскошного рынка уюта —
не разговаривали, не кричали,
а только слегка массировали настроение,
как массажисты с отрезанными языками.
А эти кричали, и разговаривали,
и пели песенку на свирели,
а если молчали, то даже молчанье
было похожим на крик или шепот.
Больше всего на картинах было войны:
но не войны генералов, парадно-медальной,
а грязной, кровавой, тифозной войны солдат,
не притворяющейся великой.
Особенно поражала картина,
художником названная «Восстанье».
Холеные руки кого-то или чего-то невидимого
с манжетами, на одной из которых,
как это, наверно, привиделось ей,
оставалось одно восходящее солнце,
а рядом второе, уроненное, валялось в грязи.
Книги, похожие на Окно выходит в белые деревья...