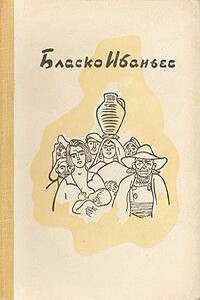Плотское познание | страница 7
Это было нечто. Я видал по телевизору марши протеста, антивоенные митинги, демонстрации негров и тому подобное, но сам никогда на улицах не околачивался, лозунгов не выкрикивал, палку с плакатом в руке не сжимал. Нас было человек сорок, женщины в основном, мы махали плакатами проезжавшим машинам и мешали людям ходить по тротуару. Одна женщина вымазала себе лицо и руки кольдкремом, смешанным с чем-то красным, Алина где-то откопала драный норковый палантин из тех, что сшиты из цельных шкурок, от головы до хвоста, со свисающими крохотными лапками, и разрисовала зверькам морды алой краской, чтобы они выглядели только что убитыми. Она нацепила этот зловещий стяг на длинную палку и стала им размахивать, дико завывая и крича: "Мех - это смерть, мех - это смерть", пока заклинание не подхватила вся толпа. День был не по сезону жаркий, мимо, сверкая на солнце, проносились "ягуары", пальмы под легким ветерком покачивали листьями, и никто не обращал на нас ни малейшего внимания, кроме одного-единственного продавца, плотно сжавшего губы и пялившегося на нас из-за безупречно чистой витрины.
Я вышагивал по тротуару, чувствуя себя уязвимым, выставленным на всеобщее обозрение, но вышагивал все-таки - ради Алины, ради всех лисиц и куниц и ради себя самого тоже; я ощущал, как с каждым шагом гордость моя надувается воздушным шаром, как в меня вливается воздух святости. До сих пор я, как все, носил замшу и кожу - высокие ботинки, кроссовки на воздушной подошве, куртку военного образца, которая у меня еще со школы. И если в отношении меха я был чист, то потому только, что не испытывал в нем ни малейшей нужды. Жил бы я на Юконе - а иногда, клюя носом на рабочем совещании, я ловил себя на таких мечтах, - носил бы мех как миленький, без всяких угрызений совести.
Но теперь-то другое дело. Теперь я борец, демонстрант, защитник права любой распоследней ласки и рыси состариться и спокойно умереть, теперь я возлюбленный Алины Йоргенсен - сила, с которой нельзя не считаться. Хотя, конечно, ступни мои ныли, я обливался потом и молился, чтобы никто из сослуживцев не проехал мимо и не увидел меня на тротуаре с бесноватыми сподвижниками и грозным плакатом.
Шел час за часом, мы ходили взад и вперед и, наверно, уже ложбину в тротуаре протоптали. Мы кричали, мы скандировали, но, посмотрев на нас мельком, второго взгляда никто нашу братию не удостаивал. С таким же успехом мы могли быть кришнаитами, спортивными фанатами, противниками абортов или прокаженными - какая разница? Для остального мира, для убогих непросвещенных масс, к которым и я принадлежал всего двадцать четыре часа назад, мы были невидимы. Я проголодался, устал, пал духом. Алина не обращала на меня внимания. Даже женщина в кровавой маске слегка подвяла, ее голос сел до хриплого шепота, легко перекрываемого шумом машин. И вдруг, когда уже наступил вечерний час пик, у бордюра остановилась длинная белая машина, из нее вышла сухая седовласая дама, похожая на бывшую кинозвезду, или мамашу кинозвезды, или даже на первую смутно припоминаемую жену директора киностудии, и бесстрашно двинулась в нашу сторону. Несмотря на жару - 80 по Фаренгейту, не меньше, - на ней была длинная песцовая шуба, пухлая переливающаяся волнистая масса меха, ради которой в тундре пришлось опустошить едва ли не каждую вторую нору. Этого-то мы и ждали.