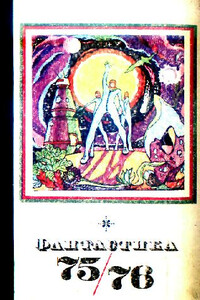Гололед | страница 16
Она вскочила и бросилась ему на шею, он испугался и отпрянул, а она уже успела обнять его и оторвать ноги от пола; вот так и получилось, что он не удержался и свалился на спину, а она цепко обхватила его руками и коленками, уселась верхом, засмеялась и стала небольно колотить его в грудь. Буданов не пытался подняться, но и на игру не отвечал. Ему снова стало не по себе, как и в тот, в первый вечер. Многочисленность людей, спрятанных внутри нее, пугала. Сейчас она была шаловливой девочкой, любимой дочкой, которой все разрешается и прощается. Она стала ею, словно бы почувствовала отцовскую нежность Буданова, и вот - снова изменила обличье.
- Я пойду, - сказал он. - Мне пора ехать.
Но она закрыла ему рот ладошкой, и последняя фраза получилась невнятной и смешной. Она обняла его, прижалась грудью, погладила щеку его и прошептала:
- Хороший ты, Славик, хороший, - и чмокнула его в нос.
Он машинально вытер его рукавом, красная полоска помады осталась на обшлаге.
Гудел телевизор, экран его равномерно светился розовым светом, как огромный глаз сквозь закрытое веко.
- Я солью воду из радиатора, - сказал он, взял ее на руки, отнес на диван и без пальто вышел на улицу.
В кабине он разыскал пачку сигарет, закурил, включил зажигание, завел мотор, подождал, когда он разогреется и кончится сигарета, тщательно загасил окурок и мягко выжал сцепление.
Через два квартала мотор застучал, забулькал, захрипел, как тяжело больной человек, и машина остановилась. Буданов покопался в моторе, но было темно, фонарь он не захватил, а светить зажигалкой побоялся.
- А, и ты с ней заодно! - сказал он и в сердцах пнул ее в колесо, и еще раз - в подбрюшье. Машина не ответила, тогда он набросился на нее с кулаками и, конечно же, разбил пальцы в кровь.
Боль отрезвила его, он закрыл дверцу, слил воду из радиатора и, чертыхаясь, побрел назад.
Дверь оказалась запертой, он стучал минут десять, сначала робко, потом раздраженно - кулаком. Ему не открывали.
Итак, он был раздет, бездомен и предан. Предан женой, автомобилем и этой женщиной, которую он чуть не удочерил в сердце своем. В своем глупом и доверчивом сердце.
Разбитые пальцы болели и снова начали кровоточить. Было ясно, что впускать его не желают, но идти было совершенно некуда, вот он и сел на верхнюю ступеньку лестницы, притулился спиной к перилам и посасывал костяшки пальцев, поплевывал розоватой слюной и, конечно же, только себя одного считал виноватым.