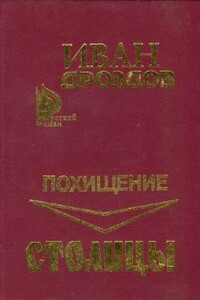И в засуху бессмертники цветут... | страница 52
Но это к слову.
Нина Сергеевна благодарно смотрит на дочь Ольгу. Та дала ей возможность передохнуть, унять душевное волнение.
— …Я как‑то знала, в чем и когда я должна проявить себя. Это дано от Бога. В нашем роду все отличались великодушием и смекалкой. Или, как говорят, — природным умом. Это дано, или не дано человеку… — вдруг она умолкла. Глаза подернулись печалью. — Он был прост, доступен, но с ним бывало непросто…
Мне показалось, что этими словами она как бы подвела черту в нашем разговоре. Ибо в этих ее словах, прихлынувших от воспоминаний, чувствовалась некая квинтэссенция затронутой темы. Нетрудно было понять, что в эти слова она вложила предельный смысл и откровенность. Но оставался еще один весьма деликатный вопрос, без которого весь разговор, вся наша беседа выглядела бы неполной. Хотя, мне показалось, что Нина Сергеевна устала.
— Вы меня простите, Нина Сергеевна, — собравшись с духом, обратился я к ней, — если вас не затруднит, расскажите подробнее о последних минутах жизни Анатолия Дмитриевича. Кроме вас этого никто никогда не расскажет.
Она вздохнула, видно, ожидала этого вопроса и страшилась его. Не очень охотно стала рассказывать:
— …В тот день он встал в хорошем настроении. Сказал: «Ты
знаешь, мне сегодня хорошо, как никогда. Схожу в поликлинику, выпишу лекарства. А то мои заканчиваются». Мы позавтракали, и он отправился. Взял с собой пару книг своих, мол, подарю врачу и сестричке.
Пришел домой довольный результатом, выложил на стол рецепты. Я стала собирать обедать. Он вдруг говорит: «Давай выпьем по рюмочке». (У нас свое, домашнее). Выпили по чуть — чуть, пообедали, и он пошел к себе в кабинет. Слышу, разговаривает с кем‑то по телефону. И на повышенных тонах. А ему ни в коем случае нельзя волноваться. Я бросила глажку и к нему. Говорю — заканчивай. Еще и руку положила на плечо… Он закрыл ладонью трубку, говорит мне: «Михаил Ткаченко…». По лицу вижу — у них неприятный разговор. Делаю ему знаки — заканчивай! Но его разве остановишь?!. Говорили они долго — минут, наверно, пятнадцать-двадцать. О чем, я не знаю. Слышу только он говорит: «…Мы их не прогоняли, сами откололись. Теперь пусть попросятся к нам, если хотят воссоединиться… Ну и что, что Лихоносов «за»?.. Не надо давать ему трубку. Он, барбос, сидит, наверно, рядом, подсказывает, что надо тебе говорить?!.». Я вышла, занялась своим делом. Слышу — положил трубку. И тишина. У меня больно сжалось сердце. Я снова к нему. Он сидит на диване, глубоко откинувшись на спинку. Бледный. Говорит глухим голосом: «Нина, мне плохо». Обычно он называет меня Ниночка. А это… Значит, тяжело ему. Достаю и подаю ему таблетку. Он говорит каким‑то неузнаваемым голосом: «Я уже принял». И: «Позови Наташу (соседка), пусть давление померит». Я пошла за Наташей, а сама дрожу вся: умрет, пока я хожу! Пришли мы с Наташей. Она померила ему давление и смотрит на меня растерянно. Как потом оказалось — оно было смертельно низким. Я по глазам поняла — беда! Она говорит: «Вызывайте “скорую”».