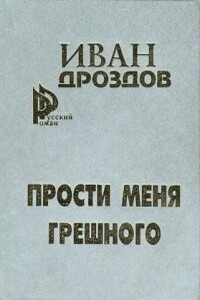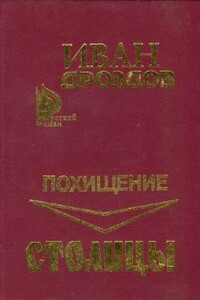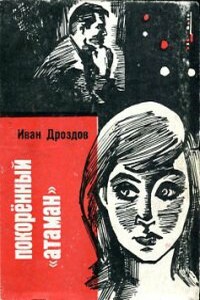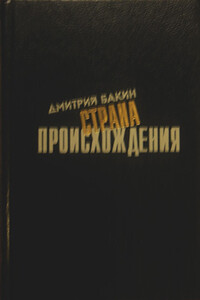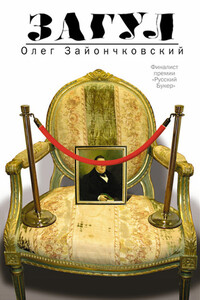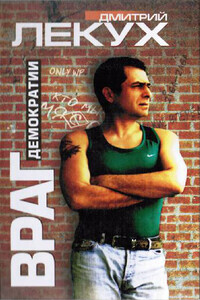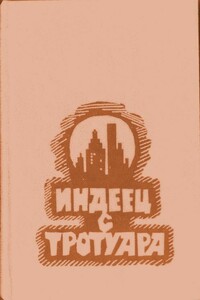И в засуху бессмертники цветут... | страница 41
Несколько ранее, когда авторитет партии еще не был окончательно расшатан Горбачевым и его компанией, когда за всеми публикациями незримо следило недремлющее око (цензура), ежемесячник «Кубань» начал печатать главы из нового романа Анатолия Знаменского «Золотое оружие республики», названного потом дилогией «Красные дни». На секунду отвлекусь: кто читал этот роман, думаю, согласится со мной — его одного достаточно, чтобы автору стать известным и уважаемым писателем. Я в ту пору работал в «Кубани» заместителем редактора и довольно часто общался со Знаменским в связи с публикацией его романа. Что скрывать, мы не особо вчитывались до набора в его рукопись, хорошо знали: Анатолий Дмитриевич не только талантливый прозаик, но и сам отменный редактор. Кстати, это качество — умение редактировать — доступно далеко не всем писателям, а лучше сказать, не многим, даже единицам. И вот однажды, когда корректура номера была уже готова к вычитке, заявляется
Знаменский и говорит: «Я свою главу из номера должен забрать. Если хотите, дам новую, вот она». У нас немая сцена: чтобы Знаменский дергался?.. Включал задний ход? Невероятно! Он: «Потом все расскажу». Забрал главу. Заменили. Подобное в течение ряда лет повторилось дважды или трижды. Но после первого раза я уже знал причину, он рассказал мне о ней во время прогулок по зеленой лужайке.
Роман «Красные дни» — произведение исключительно острое, с какой стороны ни возьми — с классовой, политической, социальной, национальной… Анатолий Дмитриевич, наученный горьким опытом с юношеских лет, чутко ориентировался в политической обстановке и потому, оказывается, заменял уже набранные в типографии главы, чтобы нас, редакцию, не подставить. «Мне‑то что, — добродушно похихикивал он, — с меня как с гуся вода, а вас могут и к ногтю прижать или разогнать. Как, например, это случилось с журналами «Волга» в Саратове, с «Авророй» в Ленинграде…».
Согласимся: не всякий автор способен на такой поступок.
Наши беседы с Анатолием Дмитриевичем, в зависимости от места встречи, носили разный характер. Если это происходило в официальной обстановке, будь то у меня в «Кубанских новостях» или в Союзе писателей, беседа обычно касалась дел текущих, насущных. Когда же мы встречались вечерами на зеленой лужайке у его дома или, скажем, в выходной день в его квартире, что случалось не так часто, там круг вопросов заметно расширялся и, конечно, в основном за счет литературы. Анатолий Дмитриевич обладал энциклопедическими знаниями, хотя формально, как уже сказано, он не имел высшего образования. «Свои университеты я прошел на Севере, в Коми, — в который раз напомнил он. — Там я общался с умным народом — с академиками, композиторами, писателями… — замолкал вдруг и под характерное «кхэ — кхэ» добавлял: — Вообще дураков в лагеря не сажали… Кхэ — кхэ… Это факт».