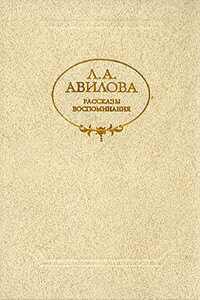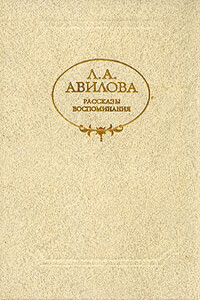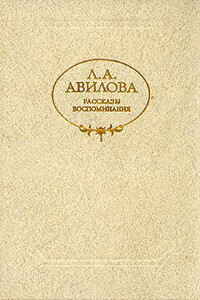Воспоминания | страница 70
Вот и влюбленность у него была своеобразна. Если девушка ему нравилась, он сейчас же начинал усиленно заниматься… не ей, а самим собой. Создавались новые образы <…>, лились ливмя стихи, где-то бушевали девичьи недоразумения, обиды и нередко лились слезы, а влюбленный Лодя напрягал все силы, чтобы показать себя как-то сверхнеобычным, непонятным, ошеломляющим. Не утверждаю, но, по-моему, Лодя только так и чувствовал и переживал свою влюбленность. Только позже, гораздо позже она стала действительно чувством, которое не заставляло его ломаться, а само ломало в нем все напускное и даже заставляло страдать, что его сильно возмущало.
…Почему я больше прощаю Леве, чем Лоде? Но очень просто: Левин характер — это наследственная болезнь, старая, известная, понятная, хотя и неприятная. Леву я ужасно жалею за его характер, как жалела бы, если бы передала ему другой недуг по наследству. У него могло быть больше сил и желания с ним бороться, больше стремления сдерживаться, это несомненно. Но надо еще знать, не в этом ли заключается наследственность, что сила борьбы почти невозможна? Может быть, нельзя исправиться, а надо переродиться? Поэтому я больше огорчаюсь, чем сержусь и возмущаюсь, когда Лева «распускается». Мне это очень тяжело и больно. Но виновником этой моей боли не только Лева, но и Миша и, главное, отец Миши. И к отцу Миши у меня только недоброе чувство, потому что я не знала его и не любила и ничего не могла ему простить, а он-то отравил Мишу и Леву своим ужасным наследством.
У Лоди более мягкий, милый характер, вспыльчивый, но отходчивый, ласковый, миролюбивый. И вдруг, прожив четыре года в Петербурге без меня, он вернулся едва узнаваемый. Необычайная заносчивость, требовательность, непримиримость… Откуда все это? Несомненно, благоприобретенное. Прежде всего, нечаянно, я начала натыкаться на все незнакомые острые углы его нового характера, ушибалась, удивлялась, во не боялась выражать свое недоумение и неудовольствие, потому что все еще помнила, что наши трения никогда не вредили нашим отношениям. Но когда я увидала, что я ошиблась и что дело серьезнее, чем я думала, то все-таки примириться мне было трудно. И сейчас ужасно трудно. <…>
Так разве не понятно, что я Леве больше прощаю (все прощаю), чем Лоде? Леве надо простить только крик, воркотню, плевки, поздравления и т. д. Словом, большой шум и неприятную «четверть часа» в переводе с французского. Все это внешнее. Что простить Лоде? Да мое прощение ему ни на что и не нужно. Ему нужно признание всех его новых достоинств. <…>