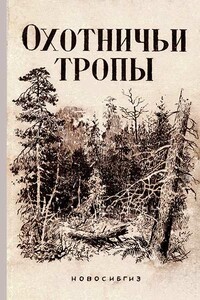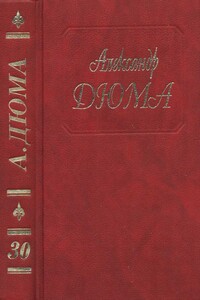Точка опоры | страница 32
После масленицы он по пути в Петербург непременно остановится в Москве, побывает у знакомых на вагоностроительном заводе в Мытищах. Какие-нибудь черточки пригодятся для пьесы, для машиниста Нила. Но первым делом - в Художественный. Правда, спектакли в начале великого поста не разрешают, но, может, на репетиции... А если не там... Опять - прямо на квартиру. К ней! К такой открытой с ним и все еще такой таинственной. У нее, несомненно, уже есть второй номер "Искры", и он с порога гостиной спросит Человечинку: "Что делать? Чем помочь студентам? Как? "Искра" не могла промолчать. Боевая подпольная газета, несомненно, уже сказала свое слово об ужасном варварстве".
...В раздумье Горький дошел до площади. Там на углу стоял лихач, появлявшийся на этом месте каждую ночь. Вороной рысак с белой лысиной от челки до ноздрей. У ряженого извозчика высокая шапка с бобровой опушкой, бородища в половину груди. Садиться в санки бесполезно - зыкнет нелюдимо: "Занятой". И смерит прилипчивым взглядом с головы до ног. Он тут наготове! А где-то по улицам рыскают юркие филеры. Может, к кому-то уже вломились жандармы с обыском. Проклятые порядки!.. Дьявольски бесправная жизнь! И к нему могут снова заявиться. Разбудят маленького Максимку. Напугают Катю, а ей теперь нельзя волноваться: скоро подарит... Быть может, крошечную Катюшку.
Горький резко повернулся и, прикрывая воротником щеку, пошел назад к дому, шагал широко, сердито отдуваясь в пушистые усы.
Окно в его комнате по-прежнему светится тускло, - Катя не добавила фитиля в горелке. Спит спокойно. Никто ему не помешает дописать письмо. Злость в сердце не только не улеглась - закипела с новой силой.
Скинул пальто, отряхнул снег с шапки и, ступая на носки, прошел к столу; опустил ноги на белую медвежью шкуру, прибавил огня в лампе, подергал себя за мокрые усы, подул на пальцы и взялся за перо:
"Настроение у меня - как у злого пса, избитого, посаженного на цепь. Если Вас, сударь, интересуют не одни Ассаргадоновы надписи да Клеопатры и прочие старые вещи, если Вы любите человека - Вы меня, надо думать, поймете".
Покашляв в широкую ладонь, продолжал:
"Я, видите ли, чувствую, что отдавать студентов в солдаты - мерзость, наглое преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов. У меня кипит сердце, и я бы был рад плюнуть им в нахальные рожи человеконенавистников... Это возмутительно и противно до невыразимой злобы на все - на "цветы" "Скорпионов" и даже на Бунина, которого люблю, но не понимаю - как талант свой, красивый, как матовое серебро, он не отточит в нож и не ткнет им куда надо?"