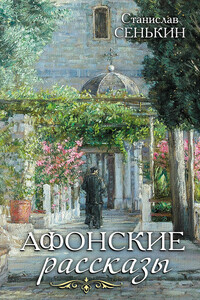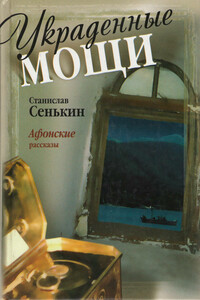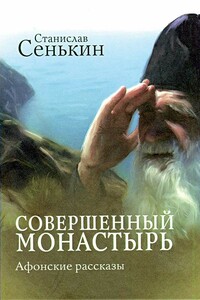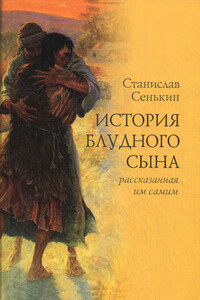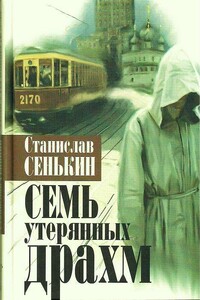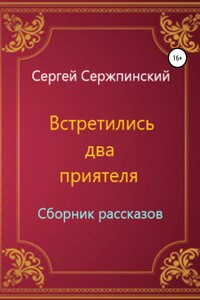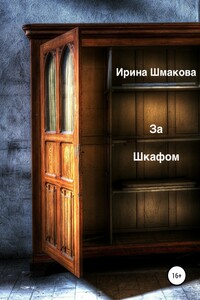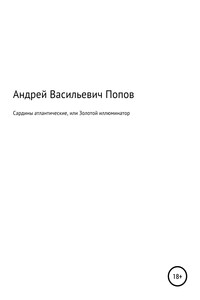Покаяние Агасфера | страница 51
Но перейдём к изложению истории, рассказанной мне пустынником, о котором я упомянул в начале рассказа.
Однажды, не так давно, на Святую гору приехали два человека — пожилой монах из Киева и молодой послушник из России. Послушника звали Андрей, монаха — отец Илларион.
Можно сказать, что на Святой горе не слишком рады прибывающим из России подвижникам и вовсе не из‑за греческой ксенофобии, которая, правда, тоже имеет место, но и из‑за авантюрного характера многих русских подвижников, пытающихся осесть на Афоне.
Судите сами: обычный смиренный монах, принявший постриг в своей обители, разве будет помышлять об Афоне? Может быть, конечно, он и вздохнет не раз в своей келье, читая Силуана Афонского, но против воли игумена пойти не посмеет.
Часто на Афон вместе с настоящими рабами Божьими прибывают беглые иеромонахи, дьяконы в запрете, нерадивые послушники, бродяги, искатели приключений и такие, как Андрей и отец Илларион, желающие использовать Святую гору в качестве трамплина для собственной карьеры.
Эти два человека, Андрей и отец Илларион, никогда не встречались и вряд ли слышали друг о друге, но я поместил их в одном рассказе, чтобы подчеркнуть, что искушением стать старцем — святогорцем и заслужить почитание верующих, не прибегая к подвигам самоограничения, молитвы и смирения, болеет и стар, и млад.
И вот, прошёлся Илларион по горе, в монастырь брать его никто не захотел, и монах задумался: как же добыть вожделенную благодать великого ангельского образа? Как достичь своей цели — постричься на Афоне в схиму и уже в качестве «свято-
горца» вернуться в родную Украину, где можно начинать «старчествовать» и окормлять благоговейных мирян?
Можно было, конечно, податься в зилоты.
Монастырь Эсфигмен принимал всех, кто против Вселенского и Московского патриархов. Можно было встать под мятежное черное знамя зилотского монастыря, на котором написано: «Православие или смерть». Илларион знал, что зилоты заставляют новостильников, «сергианцев» или других «еретиков» перекрещиваться в истинную веру, что фактически равносильно отречению. Через два года трудов на ниве зилотства можно было получить схиму, а затем, «покаявшись», вернуться в лоно Церкви. Зилотский постриг, в отличие от рукоположения, признаётся нашей Церковью законным, поскольку рукоположение может производить только правильно поставленный епископ, а во время пострига монах даёт обеты Самому Богу, и по всем канонам «расстричь» схимника невозможно.