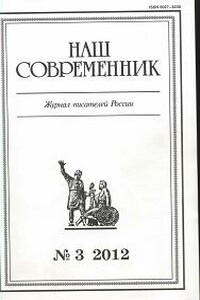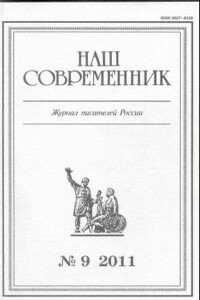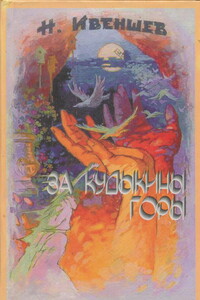Против часовой стрелки | страница 8
«Она когда‑нибудь мне скажет об этом», — думал Калачев. И пугался будущего разговора. Тогда он окажется беззащитным. Он, вот удивительно, никогда не чувствовал себя старым, несмотря на изрядную лысину и некоторую слабость по вечерам. И то, слабело лишь тело. Не дух. Его и во время уроков посещали достаточно неприличные мысли, допустим, о наготе этой самой Светочки Сукачевой. И автоматически выговаривал ту самую блевотину, заученную, затверженную двадцать лет назад: «Красной нитью проходит». И когда Калачев видел в своем сознании живот ученицы, радовался тому, что ангел — хранитель не дал ему загнуться от ядовитого воздуха в классе, от иприта и люизита в учительской. Он завидовал крутоголовым мальчишкам, смеющимся утробно, и он только хотел быть таким, как они: гонять на мотоциклах, нырять в алкогольное отвлечение от жизни. Умная Света Сукачева глядела на него вьюжными глазами, и ему становилось стыдно. А вдруг некоторые люди действительно улавливают чужие мысли?..
— А я читал, что Лермонтов у Мартынова денежки стибрил, а потом для собственного оправдания написал «Тамань». Контрабандисты, мол, обокрали, взяли деньги, которые передал отец Мартынова сыночку, — непоследовательно заявил со второй парты Сережа Шаповалов, эгоист первой гильдии, очень неглупый мальчик, пришедший сегодня в новых кроссовках. Все‑таки он — ребенок, кокетливо выставил ногу в обнове в проход.
— Дорогой брат славянин, — начал манерно Калачев, — да что мы знаем о жизни Михаила Юрьевича? И он заговорил об импульсивно — рефлексивном характере поэта.
— Может быть, может быть, — Калачев покашлял в кулак. Но тут же понял, что сбился со своей методики, исправился:
— Иди, Сережа, к доске, расскажи нам о цикле стихов о Прекрасной Даме.
Сергей нехотя поставил вторую кроссовку рядом с первой, что была в проходе и так же лениво поднялся из‑за 'парты, любуясь собой, пошел к доске. А Калачев опустился на стул и стал водить ручкой по журнальному списку. Он умел отключаться от внешнего мира и по ровной речи вызванного ученика понимал, что тот говорит дело, то есть ту
самую туфту, только изложенную пронафталиненными старичками, сочинителями учебника литературы.
Иногда Калачева дразнила мысль: «А что, если он вложит в тетрадку Светы Сукачевой записку, назначит ей свидание? Как она отреагирует на эту записку? Гм…» Хотя — дурь, конечно. Он в отличие от беспросветных глупцов умел видеть себя со стороны, другими глазами, критическими. В глазах Светы Сукачевой Владимир Петрович Калачев что- то вроде замшелого пня с глазами, этакий Иеронимус Босх.