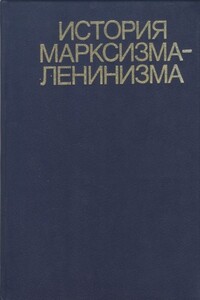Загадка Толстого | страница 48
Нехлюдов, общий Нехлюдов многочисленных произведений Толстого, тот, что сердится в «Люцерне» и умиляется в «Утре помещика», кончает самоубийством в «Записках маркера» и воскресает в «Воскресении», не несет в себе ни национального, ни религиозного начала. Он не русский: в нем голос рассудка заглушает голос крови; и не из той он породы русских отрицателей родины, которые всего ближе России в те моменты, когда они ее отрицают как Кириллов, «gentilhomme-séminariste russe et citoyen du monde civilisé»{90}. Нехлюдов принадлежит к другой породе космополитов. Тихо де Браге на угрозу изгнанием гордо ответил: мое отечество всюду, где видны звезды. Родина Нехлюдова всюду, где человек может стремиться к правде и грызть самого себя при ее вечном ускальзывании. Если для Каратаева Наполеон и декабристы — непорядок, то для Нехлюдова демократический деспот Франции и аристократические революционеры России — слишком «порядок», Слишком terre à terre{91}. Нехлюдов не христианин: для него христианство — временное dada{92}, как для Вронского постройка сельской больницы. Воскресший Нехлюдов несет в потенциальном состоянии новые падения и новые воскресения, несет в себе длинный ряд самых различных возможностей. Легко допустить, что он кончит самоубийством; ведь заставил же его однажды Толстой застрелиться после случайного и довольно невинного «падения». Нет ничего невозможного и в том, что, вернувшись из Сибири, Нехлюдов соединится узами законного брака с какой-нибудь Мисси Корчагиной, — не сразу, конечно, а годика через два-три, причем брак этот легко может закончиться так, как идиллия «Крейцеровой сонаты» (но, вероятнее всего, без убийства, — семейным адом без кинжала и крови). Можно, наконец, предположить, что Нехлюдов займется рано или поздно деятельностью общественной, как Кознышев или Крыльцов, и скорее как Крыльцов, чем как Кознышев. Только одной возможности я никак не могу представить себе для Нехлюдова: перманентную святость. Эта последняя у Толстого облекается либо в форму святости мнимой, — святошества, как у коротконогой «пиетистки», госпожи Шталь, либо в форму прозаической святости, черпающей силу в особенностях природного темперамента, как у Сони «Войны и мира», либо, наконец, в форму святости трагической, пример которой долгое время являет отец Сергий; но для последней, кроме личных особенностей, необходимо экстренное и случайное обстоятельство, которого не было в истории жизни Нехлюдова. Святость же перманентная, святость любимцев Достоевского, Толстому никогда не удавалась; он предпочитал разъяснять ее сущность в своих нравоучительных рассказах, о которых можно сказать, перефразируя слова Паскаля: «On s’attendait de voir un auteur, et on ne trouve qu’un homme»