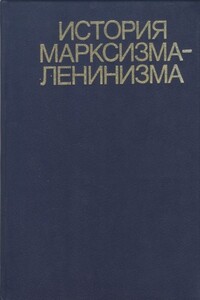Загадка Толстого | страница 47
Каратаев — не эллин и не иудей. Русский человек с головы до пят, он символизирует непонятный оптимизм народа, который, перенеся татарское иго и крепостное право, Батыев и Биронов, Аракчеевых и Салтычих, ухитрился создать кодекс практической мудрости, удивительно сочетающий Эпиктета с Панглосом. Как ни трогателен великолепный образ, созданный Толстым, но от него до вольтеровской сатиры только один шаг. «Час терпеть, а век жить», — говорит Платон Каратаев. Когда же он «живет» и что он называет — «терпеть»? Запертый французами в балаган из обгорелых досок, он, сидя на соломе, радуется: «Живем тут, слава Богу, обиды нет». Рассказывая Пьеру, «как его секли, судили и отдали в солдаты», он «изменяющимся от улыбки голосом» добавляет: «Что ж, соколик, думали горе, ан радость!». Глядя на пожар Москвы, философски утешается: «Червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае». Да ведь и капуста «пропадае»? Но Каратаев оптимист и на чужой счет. В знаменитом рассказе он передает ужасную историю, которая в своем роде стоит повести Ивана Карамазова о затравленном ребенке, но лицо его блаженно сияет «особенно радостным блеском». Чему он радуется? Тому ли, что невинному купцу вырвали ноздри «как следует по порядку»? Тому ли, что объявился настоящий виновник, которому за минуту умиления, за принесенное сознание, вероятно, тоже по порядку вырвут ноздри? Тому ли, что «пока списали, послали бумагу, как следовает», невинный купец отдал Богу душу? Что скрывается в глубине этого таинственного явления? Для Каратаева, как для всего русского народа, преступник и несчастненький — одно и то же. Но еще вопрос, как создалась эта ассоциация понятий: видит ли Каратаев несчастье в преступлении или преступление в несчастье? Его веками воспитанное смирение тесно сплелось с культом поддерживающей status quo физической силы; но оно, по-видимому, исчезает, как дым, в дни общественных потрясений. Велика объединенная сила косности ста пятидесяти миллионов Каратаевых, но стоит пробежать искре и вспыхивает «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Бессмысленное смирение, бессмысленный бунт... Да и для чего Каратаеву смысл? Он живет вне логики и не знает, что такое логика. Он способен любоваться чем-то в несправедливости, но борьба с ней не вяжется в нормальное время с его понятиями о благообразии. Он видит «порядок» в вырванных ноздрях купца, но та деятельность, которой в эпилоге «Войны и мира» отдается Пьер Безухов, по признанию самого Пьера, не нашла бы одобрения Каратаева. В нормальное время для него все действительное разумно, а он сам бессознательный русский гегельянец 40-х годов. Я боюсь даже, что он и в толстовстве не найдет своего любимого благообразия, по крайней мере, до тех пор, пока толстовство не завоюет мира. Каратаевщина — большое личное счастье и огромное социальное зло. И если Толстой порою видел в ней высшую мудрость жизни, то носитель этой мудрости, русский Папглос в сермяге, не заплатит той же монетой великому рыцарю духа.