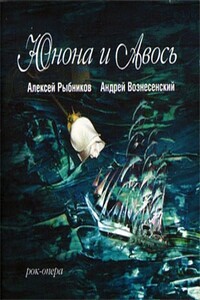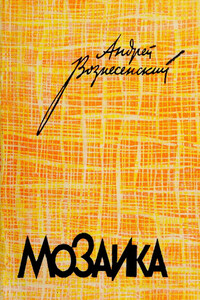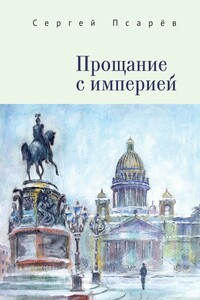Прорабы духа | страница 60
С какой сердечностью, распахнутостью, незащищенностью, предчувствием скорого расставания с кратковременным «я» повторяется в стихах Есенина: Сергей, Сережа, Сергуха, Сергунь, Сергей Есенин! Как ковано звучит «Владимир» Маяковского! Цветаева зашифровала себя в море.
А что скажет нам имя «Мур»? Как оно проступает в его твореньях? Как подсознательное «я» проявляется в очертаниях его созданий? Откуда его овальные дыры, пустоты, ставшие его манерой?
MOORE — так пишется по-английски его имя. Оно образовано двумя «о». Да простят мне английские муроведы наивность лингвистического метода! Я вижу, как вытягивается уже достаточно вытянутое аристократическое лицо Джона Рассела, автора монографии о Муре, мы многие часы провели с ним в беседах: ах, вот куда клонит этот русский! Да, я уверен, что эти «о» стали неосознанно творческим автографом Мура в камне — отсюда его отверстия, овальные люки в пространстве. Скульптор подсознательно мыслил очертаниями родных букв.
Осведомленный критик тут прерывает мое повествование. Его глаз пролезает в скважину моей двери. Он весь по пояс протискивается, как змея, за своим сладострастным глазом.
— Ну автор, вот, хе-хе, и до двух нулей доигрался. Туалетные символы. Пушкин так бы не написал. Конечно, я читал Пушкина. Но у него это было более по-народному. Или по-французски.
Он уныривает в нору замочной скважины и затихает, уже куда-то пишет. Жаль его. В его взгляде вечная ущемленность.
От нее осталась у меня манера читать страницы. Я вижу сначала жемчужную горсть «о», разбросанных по листу, а потом уже остальные буквы.
Страница газеты, как оконные стекла в оспинах первых капель дождя, напоминает мне о ней.
В хрустальной Морозной пушкинской строфе 1829 года замерли крохотные «о», как незабвенные пузырьки шампанского:
Может, он вспомнил Михайловское два года назад, когда так хотелось шампанского и приехал Пущин и черная бутылка дельфином скакнула в снег?
Но навек остались пузырьки прекрасного мгновения, замершего в строфу тоста, — щекочущие до слез игольчатые пузырьки Клико…
Оказалось, что буква «о» — самая распространенная в русском языке, основа нашей речи, а стало быть, и сознания. Не она ли ключ к национальному характеру? Даль пишет: «О — по старинке «он», повторяется не в пример чаще всех прочих».
«Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история» говорят об овальном мировоззрении Гончарова, восприятии окружности бытия.