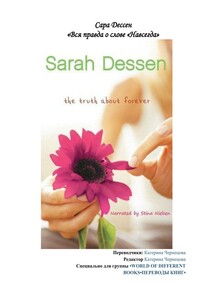Замок и ключ | страница 32
Такого объяснения вполне хватало, если мама была достаточно пьяна. Однако гораздо чаще я слышала скрип диванных пружин, затем шлепанье босых ног по полу. Кора немедленно бросала все, чем занималась в эту секунду — мазала бутерброды, рылась в мамином кошельке в поисках денег на школьные завтраки, отодвигала открытую бутылку вина подальше, — и делала то, что больше всего ассоциировалось у меня с ней. При виде рассерженной, настроенной на драку мамы сестра всегда закрывала меня собой. Тогда она была на целую голову выше, и я отчетливо помню, как менялась картина перед моими глазами: пугающее зрелище становилось привычным. Конечно, я понимала, что мама приближается, но передо мной была Кора, и я видела только ее — темные волосы, острые лопатки, руку, которой она искала мою ладонь, когда все шло совсем плохо. Сестра стояла, готовая к удару или чему-то еще, надежная, словно нос корабля, врезающийся в гигантскую волну и превращающий ее в обыкновенную воду.
Именно Коре доставалось большинство хлестких пощечин, резких толчков двумя руками, от которых она отлетала назад, внезапных грубых рывков за предплечье, оставляющих на коже красные следы, а позже — синяки в форме отпечатков пальцев. Мы никак не могли понять, в чем наша вина, и, следовательно, избежать проступков в дальнейшем. Мы не спали, хотя должны были, слишком много шумели и всегда неправильно отвечали на вопросы, на которые, похоже, не существовало верных ответов. Закончив экзекуцию, мать трясла головой и возвращалась на диван или брела в свою спальню, а я ждала, пока Кора не скажет, что нам делать дальше. Чаще всего она сама уходила из комнаты, вытирая слезы, а я молча шла за ней, стараясь держаться поближе и чувствуя себя в безопасности лишь тогда, когда Кора стояла не только между мной и мамой, но и между мной и остальным миром.
Позже я выработала собственную систему обращения с подвыпившей матерью, научилась угадывать ее настроение по количеству пустых стаканов или бутылок на столе, выстроившихся к моему возвращению домой, или по интонациям, с которыми она произносила два слога моего имени. Порой мне тоже доставались затрещины, но гораздо реже с тех пор, как я перешла в среднюю школу. Самым дурным знаком всегда было мамино пение, заслышав его, я медлила у двери, прячась от света и не решаясь войти внутрь. Как ни красиво звучал ее голос, выводящий знакомые мне с детства мелодии, я знала, что за ним скрывается уродство.