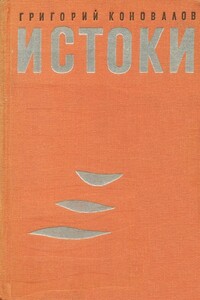Былинка в поле | страница 95
Тот покосился на задремавшего на солнпепке Афанасьева, к губе которого прилипла погасшая цигарка, кпвнул ободряюще:
- Говори - наболело, вижу. Я не доносчик.
- Я не боюсь. Голоса лишили, завтра, может, жизнп решат... В мои лета, думается... Без земли нп одна власть не проживет. И хоть говорится: не будь лапотника, ле будет и бархотника - да это верно, землп хватит для всех крепких рук. Лишь бы за землю удержаться, не улететь. Пусть в город вывнхрпваются не пустившие глубоко коренья. Там отшлифует тебя волной, как гальку на речке, и не будет лица у тебя своего.
- К сожалению, жизнь так и распоряжается нами, - с грустью сказал Халплов. - Ах, как жалко мне вас...
- Жалко, говоришь? Тут бы чуточку так повернуть, как при Столыпине. Умный был министр, да поздновато за отруба взялся. Но чего бог не дал, тому не научишься.
Все ищут правду. А где она? Люди бы море пригоршнями вычерпали, если бы на дне лежала правда. Теперь-то мне что искать на старости лет? Да не о себе, о России думаю...
- Раньше бы думать надо было, дяденька, так нет, каждый за свой куток держался, - насмешливо сказал Халилов. Вскочил, стряхивая соломинки с брюк, вразвалку, по-кавалерийски, пошел в конюшню.
Афанасьев, сморгнул с глаз легкую вешнюю дрему, как чутко заснувшее дите, покидаемое родителями, встрепенулся, потянул за Халиловым, будто привязанный. Тревогу и зоркость заметил в его лице Ермолай. Пошел следом за ним в конюшню.
Халплов велел конюху Клюеву оседлать Пульку, маленькую, степных кровей, летучую, как ветер, буланую с черным хвостом, черной гривой и челкой трехлетку.
Конюх выкатил сизые строптивые глаза, сказал, что Тимкину лошадь он седлать не будет - "на нее сам дилектор не осмеливается сесть". Никого, окромя Тимкн Цевнева, не признает Пулька, бегает за ним, как собака.
А сейчас Тимка за три версты отсюда, на конном дворе лежит на крыше, читает книжку Федьке Коминтерну - так звалп воспитанника совхоза, подобранного в степи.
Халилов часто задышал, скользя смурным взглядом по просторной завозне со сбруей, с налаженной к ходу тачанкой. Но Клюев, подмигнув, открыл клапан в его душе:
- И для какого ляда сдалась тебе эта мышь с гривой?
Ни ладу, ни стати. Садись на Беркута - идет как пишет, будто не земля под ним, а чистая бумага.
Афанасьев зорко следил, как Халилов одернул ватник, поправил кобуру с наганом и мелким шагом подошел к рыжему Беркуту.
"Что за наваждение? Да ведь он вылитый Иннокентий Дуганов, и морда, и стать прямо спечатанные с Иннокентия покойного", - думал Афанасьев.