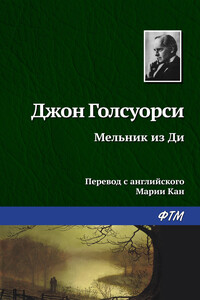Шесть ночей на Акрополе | страница 54
— Вижу, юноша, вижу. Ты тоже в плену вековых предрассудков.
— Так, по крайней мере, говорил Одиссей, — добавил я.
— Ха! Этого я и ожидал. Хитроумный Одиссей, — сказал Лонгоманос таким тоном, будто у них были старые счеты. — Именно ему нравилось держать народ в неведении!
— Понятно, — сказал я, желая прекратить этот разговор.
Однако Лонгоманос больше не обращал на меня внимания — он был уже в ударе:
— А сестрой Кирки была Пасифая, родившая Минотавра — этот прадавний символ заключенных.
— Да, Сокол, — ритуально изрекла Сфинга. — Минотавр — это настоящий Прометей.
Мне уже порядком надоела эта закодированная беседа, и я поднялся.
— Прощай, юноша, — сказал Лонгоманос, — и не верь тому, чему учат благоустроенные имена.
Я не ответил. Сфинга снова совершила еще одно такое же поклонение его амулету. Лонгоманос проводил нас до двери, ведущей во двор. Кнут, делавший во время нашего разговора записи в блокноте, последовал за ним.
— Прощай, прекрасная Пасифая, — сказал Лонгоманос Лале. — Не бойся метаморфоз: они делают душу шире.
— Она постепенно научится, — покорно произнесла Сфинга, — научится, Сокол.
— Пасифая — вот кто истинная Афродита!
С этими словами Лонгоманос повернулся к нам спиной.
На улице я облегченно вздохнул. Я почувствовал в Лале поддержку. Кожа ее приобрела легкий бронзовый оттенок.
— Как прошло ваше путешествие? — спросил я ее.
— Превосходно, — с жаром отозвалась она. — Мы были на Пелионе. Все дни напролет — море и горы. И прибрежные гроты, где никто не мешает.
Саломея, всецело обладающая тем, что я любил, предстала передо мной в морских бликах. Мне стало больно.
— Могу себе представить преклонение Саломеи перед природой, — недобрым тоном произнесла Сфинга.
— Почему ты называешь Лонгоманоса Соколом? — спросил я ее.
Перемена темы ошеломила Сфингу. Она взглянула на меня угрожающе и сказала:
— Потому что он хищный, как сокол. Совсем не такая дохлятина, как некоторые.
Настроения продолжать у меня не было.
Автобус вмиг набился битком. Сфинга устроилась впереди. Я сел рядом с Лалой.
— Саломея — такая хорошая подруга, — сказала Лала. — Не могу понять неприязни Сфинги.
Я не ответил.
— Ты тоже странный, — сказала она, немного погодя.
— Странный? Почему же?
Она попыталась объяснить:
— Пафос у тебя странный. Скрытое пламя. Другие понимают это слишком поздно, что вполне естественно. Так вот и начинаются драмы.
Я заподозрил, что Саломея рассказывала ей обо мне. Мне стало неприятно:
— Может быть, я совсем без пафоса. Знаешь, что мне было бы нужно, Лала? Тело без чувственности, без отравляющих слов и всего этого жалкого пепла. Если бы дерево могло стать женщиной, это было бы как раз то, что мне нужно.