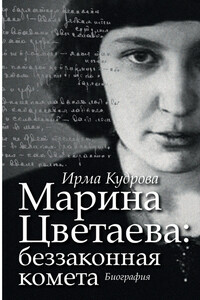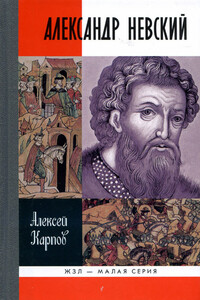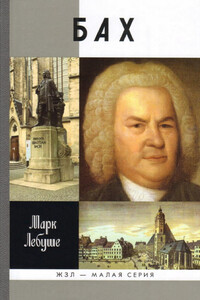Третья версия. Еще раз о последних днях Марины Цветаевой | страница 23
Мне кажется, именно об этом говорит Марина Ивановна 26 августа 1941 года, за четыре дня до своей гибели. Говорит единственному человеку, встреченному после отъезда из Москвы, в котором она угадывает сразу ту редкую породу людей, к которой принадлежит сама. Она говорит наконец собственным голосом, без оглядки. Потому что это ее голос, ее подход к происходящему, ее масштаб оценок. Еще в те дни, когда чуть ли не в одночасье фашистские войска поглотили Чехословакию, Цветаева уже выразила в поэтическом слове трагедийное мироощущение современника. В цикле “Стихи к Чехии” эти строки потрясают редкостной мощью личного чувства, соединенной с даром укрупненного видения вещей и событий: “Отказываюсь — быть. / В Бедламе нелюдей / Отказываюсь — жить. / С волками площадей / Отказываюсь — выть. / С акулами равнин / Отказываюсь плыть — / Вниз — по теченью спин. / Не надо мне ни дыр / Ушных, ни вещих глаз. / На твой безумный мир / Ответ один — отказ...”
А ведь то была всего лишь весна 1939 года. Правда, уже пробили удары колокола в судьбе самой Цветаевой. Год назад уехала из Франции в Москву ее дочь, полгода назад тайно, спасаясь от полиции, бежал туда же муж. Они были пока на свободе, но, по сути, уже наколоты, как бабочки на булавках. Когда осенью тридцать девятого их арестовали, Цветаева не тешила себя иллюзиями о случайной ошибке, как многие другие. Она воспринимала скорее как ошибку собственную свободу. И свободу тех, с кем она еще встречалась.
Трагедийное напряжение эпохи было все 30-е годы не вовне, но внутри ее собственного дома. Между тем она начисто лишена была спасительного свойства обыкновенных людей: приспособляться к непереносимому. Хлопотать, как-то перебиваться, обустраиваться, выживать хотя бы и у подножия вулкана. Она пыталась что-то делать и даже вдруг проявляла неожиданную предусмотрительность (вроде писем Чагина, например, вывезенных из Москвы). Но она не могла стать другой, если бы и хотела.
Она не могла перестать слышать то, что слышала. Ощущать и переживать все так, как ощущала и переживала всю свою жизнь — с безмерной, разрывающей сердце остротой.
“В Вас ударяют все молнии... а Вы должны жить...” — писала она семнадцать лет назад, почти что в другой жизни, Борису Пастернаку[15]. К красотам метафор ради самих красот она никогда не прибегала. Тем более обращаясь к собрату по призванию. Ведь писала она ему о том, что знакомо ему было не хуже, чем ей: о природе истинного поэта. Наоборот, можно быть уверенным, что подбирала она наиболее точные слова, чтобы он сразу мог узнать это состояние. В вас ударяют все молнии. А вы должны жить... Так, во всяком случае, было с ней самой.