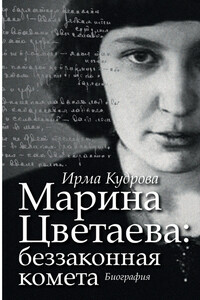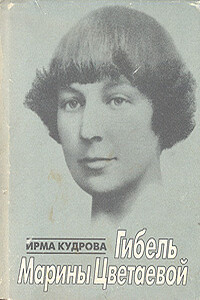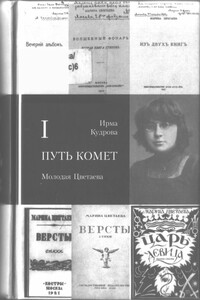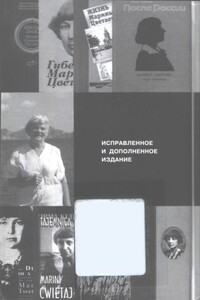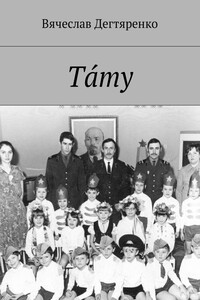Третья версия. Еще раз о последних днях Марины Цветаевой | страница 14
Тамара Петровна Краснова, тогда совсем молоденькая, увидела Цветаеву посреди базара. Что это именно она, сообразила много лет спустя, когда ей в руки попалась книга с портретом Марины Ивановны: “Чувство было совершенно отчетливое: это ее я тогда видела!” А запомнила она эту необычную женщину потому, что нельзя было не обратить на нее внимания: стоя посреди базара в каком-то жакетике, из-под которого виден был фартук, она сердито разговаривала с красивым подростком-сыном по-французски. Тамара Петровна знает немного немецкий и говорит, что французский она легко отличает от других языков. Женщина курила, и жест, каким она сбрасывала пепел, тоже запомнился — он показался Тамаре Петровне странно красивым. А у нее был особенный глаз на такие подробности — она готовилась тогда в артистки. Сын отвечал женщине тоже сердито, на том же языке; потом побежал куда-то, видимо по просьбе матери. Пара была ни на кого не похожа, потому надолго и запомнилась. А еще необычным было лицо этой женщины: будто вырезанное из кости и предельно измученное. Такое, будто у нее только что случилось большое горе.
Вот этот повтор: лицо измученное! Будто сговорились. Вспоминали разные подробности — одежду ее, фартук, в котором ее видели на улице, суровость, с какой проходила она мимо молоденькой библиотекарши в кабинет заведующей. И всякий раз неукоснительно: “Лицо у нее такое было... будто сожженное... замученное”.
Еще один елабужский старожил засвидетельствовал личное знакомство — но уже не с Мариной Ивановной, а с инструкцией, ее непосредственно касавшейся. Мой собеседник Николай Владимирович Леонтьев хорошо помнил содержание этой инструкции. В ней давалась характеристика Цветаевой, а также жесткие указания, какие меры следует предпринимать, дабы оберечь граждан города от вредоносного влияния самой памяти о пребывании Цветаевой в городе Елабуге. Знал эту инструкцию Н. В. Леонтьев по долгу службы, ибо возглавлял в елабужском горкоме партии отдел пропаганды и агитации, кажется, так это тогда называлось... Правда, не во время войны, а вскоре после ее окончания. Однако инструкция — это совершенно ясно — сохранила дух, нисколько, по-видимому, не изменившийся с того времени, как в Елабугу прибыла 17 августа 1941 года великая русская поэтесса.
— Кем был составлен этот циркуляр, — задаю я наивный вопрос Николаю Владимировичу, — елабужскими властями или казанскими?
Реакция в ответ почти сожалеющая: настолько ничего не понимать! Однако когда мой собеседник начинает излагать суть инструкции, моя наивность испаряется: очевидно, что елабужским властям самим такого просто не придумать.