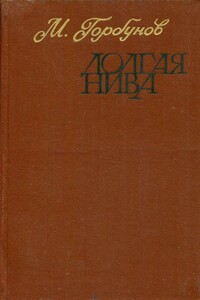Белые птицы вдали | страница 62
— Что это? — робко спросила Зинаида Тимофеевна.
— Полоскательница! — объявила тетя Тося. — Нет, нет, очень даже милый сервиз, видно, не нашего времени. Теперь полоскательницы считаются ненужной роскошью. А жаль.
Все облегченно вздохнули — загадка была разгадана, реноме всезнающей Антонины Леопольдовны осталось неколебимым.
— Ну вот и хорошо, — сказала Зинаида Тимофеевна. — Сейчас будем чай пить из нового сервиза.
— Вот это дело, — удовлетворенно крякнул дядя Ваня и переглянулся с Константином Федосеевичем: припасено, мол, у него для такого случая или в магазин бежать? Константин Федосеевич взглядом же ответил, что все в порядке.
После чаепития Антонина Леопольдовна ушла домой с полоскательницей — эта вещь должна была принадлежать только ей.
В темноте зашипело, и Марийка в полудремотном ожидании отняла голову от подушки: сколько раз пробьют часы? Она насчитала четыре хриплых коротких удара. Часы щелкнули, словно кто-то бросил косточку на невидимых счетах, и маятник снова зашагал своей дорогой. Из-за отдернутой, чтобы не было душно ночью, занавески Марийка угадывала знакомые очертания комнаты, в щели ставен сочился серый рассветный сумрак, но за окнами была еще ничем не нарушаемая глухота, и Марийку это успокоило: можно немного полежать.
Она с недоумением поняла, что вставать ей вообще не хочется, и это было уже чем-то далеким, когда они с отцом вот такой же ранней ранью поднимались и пустыми спящими улицами шли к Днепру, поеживаясь от затемнившего широкую воду ветра, садились на первый катерок и плыли удить рыбу на Черторой, и далек был тот восторг, с каким она ждала рыбалку и с каким проходило все утро и весь день на каменистом берегу и дальше, за камнями, на горячем сыпучем песке, средь кустов, куда они, кончив рыбалку, уходили варить уху, а потом снова загорали и купались на отмелях… Теперь они тоже собрались на Черторой на целых два дня, но того восторга уже не было у Марийки, и она шла на рыбалку больше в угоду отцу с матерью, потому что видела: они заметили перемену, происшедшую с ней после возвращения из Сыровцов, и это мучило их и мучило саму Марийку, особенно когда весной, после окончания четвертого класса, она наотрез отказалась ехать в Сыровцы.
Сколько же она отрывала от себя этим отказом! Ее преследовали Сыровцы — и луг, и речка, и хата дяди Артема, и, конечно, сам дядя Артем, и тетя Дуня, и Ульяна, и тетка Мелашка, и Кононовы дочери, — и сердце ее болело тяжелой болью отступничества. «Ехать!» — спасительно находило на нее временами, но перед ней вставали залитые солнцем душные конопли, сузившиеся глаза тетки Ганны или равнодушные глаза дядьки Конона и его заостренное бородкой личико, тянущееся к большому уху Трохима… Не было такой платы, на которую она не пошла бы, только бы все осталось — как до той страшной находки на горище, вот до этого ее постоянного смятения… Чего бы ни отдала она, чтобы кто-то снял с нее эту ненавистную ей самой привычку уходить и уходить в себя, в свою короткую жизнь — не длиннее трубочки с разноцветными стеклышками; эта бездушная трубочка, сколько бы ни крутила ее Марийка, с обезоруживающим постоянством складывала ей радужные рисунки детства, где всегда были папа, мама, Василек, Юлька, дядя Ваня, тетя Тося, Зося, мать-Мария с матерью-Валентиной… И так — сколько бы она ни крутила трубочку… То, что она выискивала ежедневно и ежечасно, не давалось ей, и она просто решила не ехать больше в Сыровцы…