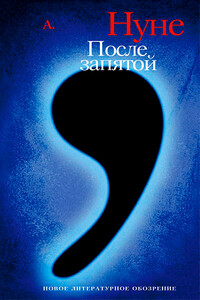Икс | страница 81
Нильсен даже остановился и посмотрел на Шелестова в упор:
— Смотрите. Если связь пространства и времени давно уже не гипотеза, а общеизвестное уравнение, то помимо темного, ненаблюдаемого нами пространства ДОЛЖНО СУЩЕСТВОВАТЬ И ТЕМНОЕ ВРЕМЯ!
И, словно сам ошеломленный этим выводом, отступил на шаг и развел руками.
— То есть, то есть! — воскликнул понятливый и тоже потрясенный Шелестов. — То есть некоторую часть времени…
— Мы не наблюдаем! — кивнул Нильсен. — Мы живем во Вселенной, как бы в кукольном картонном домике, где на стенах нарисованы для нас звезды, солнце, деревья, нравственные законы. Но настоящая Вселенная лежит за стенами домика, и о ней мы едва-едва начинаем догадываться. Нужно нечеловеческое зрение и уж вовсе нечеловеческое воображение, чтобы представить себе этот мир, в котором нам, живым созданиям, места нет. В сутках может быть вовсе не двадцать четыре, а, например, тридцать три часа. И припомните — много ли мы помним из каждого дня? Те, кто не ведут дневников, вообще ничего вспомнить не могут, а те, кто ведут, знают, что они туда-то поехали и с тем-то говорили, в лучшем случае о том-то думали, как Толстой. Большинство людей видит лишь себя. Вот навстречу нам прошли несколько человек — вы их заметили?
— Как же, заметил, — сказал Шелестов. — Темно, правда, но ничего особенного. Семеро. Сначала женщина одна, в руке сумка матерчатая, видимо, с книгой. Потом двое явно местных, один с бородой, другой в белой панаме, лет по пятьдесят. Еще один потом, на лбу шрамик, очки, похож на учителя, и трое подростков по пятнадцати где-то, очень тихие, странные.
— Писатель! — развел руками Нильсен. — А я и не заметил ничего…
— У кого какой дар, — скромно сказал Шелестов. — Это потому, что я себя совсем не вижу, на себя не смотрю, все на других. Так, наверное, надо романисту. Если б я стихи писал, то был бы, наверное, самоуглублен.
— Вот видите, — словно его теория подтвердилась, обрадовался Нильсен. — Вы все про других, а про себя могли и не помнить. У вас была эта Анна, но поскольку дело касается только вас, а не жизни, не литературы, — вы про нее и забыли. А потом ваше подсознание вам подсунуло ее с этой родинкой, и вы ее описали, потому что у писателя все в дело.
— Ну, знаете, — выдохнул Шелестов после паузы. — Если б у меня такая была, я бы не забыл.
— А откуда мы можем знать? Может быть, мы как раз забываем самое главное, чтобы потом не мучиться, — сказал Нильсен с неожиданной болью. — Я любил один раз, до жены. И я совсем ее сейчас не помню — ни имени, ни лица, ни тела, ничего. Я узнал бы ее из тысячи, но это если бы мне показали. А если бы нет, вот сказали бы — нарисуй… нет, ни одной черты. Почему? Потому что жить и помнить было выше сил…